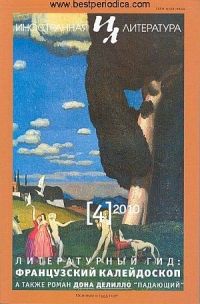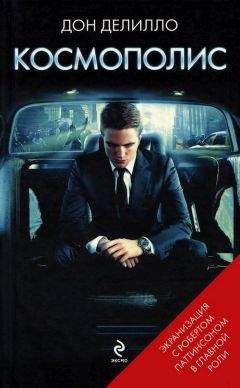В дальних закоулках казино — прокуренный голос комментатора, повтор. Забег повела Дочь Мэна.
Она скучала по вечерним посиделкам в компании, когда разговор идет обо всем на свете. Вообще-то она перестала поддерживать с кем-либо тесные отношения — просто в них не нуждалась и не упрекала себя за это. Многочасовая болтовня и смех, откупоривается бутылка за бутылкой. Она скучала по уморительным монологам неисправимых эгоистов, впавших в кризис среднего возраста. Еда кончалась, вино — нет, а как же звали того коротышку в красном шарфике, который изображал звуковые эффекты из старых фильмов о подводниках? Теперь она ходила в рестораны очень редко, ходила одна, долго не засиживалась. Она скучала по осенним уик-эндам в чьем-нибудь загородном доме: листопад и футбол, и дети скатываются по травянистым горкам, заводилы и подражатели, и за всем наблюдает пара поджарых длинноногих собак, сидящих в красивых позах, точно мифические существа.
Но ее больше не влекло ко всему этому, былая радость предвкушения иссякла. Да и о Кейте надо подумать. Ему не захочется. В таких компаниях он никогда не чувствовал себя естественно, а уж теперь… Даже в быту, по пустякам люди остерегаются к нему обращаться. Им кажется, что он их отбросит. Что они ударятся о стенку и отскочат рикошетом.
Мать — вот по кому она скучает. Теперь Нина была повсюду, но только в воздухе, в дымке воспоминаний, ее лицо, ее дыхание: сопутствующая тень где-то рядом.
После гражданской панихиды, четыре месяца назад, они отправились в ресторан — всего несколько человек. Мартин, как обычно, откуда-то прилетел, откуда-то из Европы; были также двое бывших коллег матери.
Полтора часа прошли мирно, вспоминали о Нине и не только, рассказывали, над чем сейчас работают, куда съездили. Женщина, писательница-биограф, была словоохотлива. Мужчина почти все время молчал. Он был директор архитектурно-художественной библиотеки.
День склонялся к вечеру, принесли кофе. И тут Мартин сказал:
— Нам всем обрыдла Америка и американцы. Аж тошнит.
В последние два с половиной года жизни Нины они виделись очень редко. Друг о дружке справлялись у общих знакомых или у Лианны: она связывалась с Мартином, изредка, по электронной почте и телефону.
— Но я вам кое-что скажу, — сказал он.
Она посмотрела на него. Все та же тринадцатидневная щетина, набрякшие веки: хронический эффект смены часовых поясов. Обычная униформа — вечно неглаженый костюм, мятая — точно он в ней спит — рубашка, галстука нет. То ли беженец, то ли человек не от мира сего, заплутавший во времени. Пока Лианна с ним не виделась, он погрузнел, лицо расплылось, бородка уже не скрывает одутловатости и обрюзглости. Взгляд замученный: глаза ввалились, стали какие- то маленькие.
Несмотря на все беспечное могущество этой страны, позвольте заметить, несмотря на всю свою опасность для мира Америка станет нулем. Верите?
Она точно не знала, зачем — вопреки веским основаниям — продолжает поддерживать с ним связь. Разве мало ей о нем известно, пусть даже обрывочно? Еще показательнее то, как стала относиться к нему мать. Разрушение башен — на его совести: он одного поля ягода с разрушителями.
— В немецком языке есть такое слово: «Gedankeniibertragung». Передача мыслей. Всех нас начинает посещать одна и та же мысль — что Америка уже почти ничего не значит. Настоящая телепатия. Очень скоро вообще не будет нужды вспоминать об Америке — разве что в связи с ее опасностью для других. Она теряет центральную роль. Становится центром лишь для дерьма, которое сама порождает. Вот и все ее главенство.
Она не совсем поняла, что вдохновило его на эту речь — наверно, чье-то мимолетное замечание несколькими минутами раньше. Либо Мартин затеял спор с умершими, с Ниной. Другие — коллеги Нины — явно пожалели, что не ушли домой пораньше, что заказали кофе с печеньем. Сейчас не время и не место, сказала женщина, для споров о международной политике. Нина провела бы дискуссию лучше, чем мы все, вместе взятые, добавила она, но Нины здесь нет, и эти разговоры оскверняют память о ней.
Мартин отмахнулся — резко взмахнул рукой, отметая чужие резоны. Он — звено, соединяющее ее с матерью, подумала Лианна. Вот почему она не прерывала контактов с ним. Он вызывал из небытия явственный образ Нины, даже пока та была жива — была жива, но угасала. Десять-пятнадцать минут поговоришь с ним по телефону — с человеком, излучающим грусть, любовь, память (пятнадцать минут или дольше, иногда битый час), — и станет тяжелее и легче одновременно, видишь Нину словно бы на стоп-кадре, проницательной и бодрой. Она рассказывала матери об этих звонках и наблюдала за ее лицом, пристально высматривала проблеск света.
Теперь она смотрела на него.
Коллеги Нины настояли, что за всех заплатят. Мартин не сопротивлялся. Он про них все понял. Они держались с опасливой тактичностью, уместной скорее на похоронах государственного деятеля при авторитарном режиме. Прежде чем распрощаться, директор библиотеки взял из вазы на их столике подсолнух и воткнул в нагрудный карман пиджака Мартина. Это было проделано с улыбкой — враждебной или нет, непонятно. Затем директор наконец высказался — возвышаясь над столом, натягивая плащ на свое долговязое тело:
— Если мы в центре, то лишь потому, что вы нас туда поместили. Вот в чем ваша истинная проблема, — сказал он. — Несмотря на все, Америка остается Америкой, а Европа — Европой. Вы ходите на наши фильмы, читаете наши книги, слушаете нашу музыку, говорите на нашем языке. Разве вы можете выкинуть нас из головы? Вы нас постоянно видите и слышите. Спросите себя. Что придет после Америки?
Мартин заговорил тихо, почти лениво, сам с собой:
— Нынешней Америки я больше не знаю. Смотрю и не узнаю, — сказал он. — Была Америка, стало чистое поле.
Они остались, Мартин и она, единственные посетители в длинном зале ниже уровня земли, уровня мостовой, и еще долго говорили. Она рассказала ему о последних тяжелых месяцах жизни матери: лопнувшие сосуды, непослушные мышцы, заплетавшийся язык, пустые глаза. Он низко наклонился к столу, шумно дыша. Ей хотелось послушать его рассказы о Нине, и он начал рассказывать. Казалось, долгое время она знала мать только сидящей в кресле, только лежащей на кровати. А он вознес ее в мансарды художников, в византийские руины, в аудитории, где Нина читала лекции, — от Барселоны до Токио.
— Когда-то, в детстве, я воображала себя ею. Иногда я выходила на середину комнаты и заговаривала со стулом или диваном. Говорила очень умные вещи о художниках. Я знала, как правильно произносятся все имена, даже трудные, и знала их картины по книгам и по музеям.
— Ты часто оставалась одна.
— Я не могла понять, почему мои родители разошлись. Мама никогда не готовила. Папа, казалось, никогда ничего не ел. Чего же ссориться?
— По-моему, ты навсегда останешься дочерью. В главном и навечно — такова твоя сущность.
— А ты навечно кто?
— Я навечно любовник твоей матери. Издавна, задолго до нашей встречи. Навечно. На роду написано.
— Убедительно говоришь — я почти верю.
А еще ей хотелось верить: он неважно выглядит не потому, что болен или удручен какими-то крупными убытками. Конец долгого романа — их с Ниной романа — вот что его подкосило. Только это, и ничего более. Так она решила, и в ней пробудилось сочувствие.
— Некоторым везет. Они становятся теми, кем им полагалось стать, — сказал он. — У меня так не получалось, пока я не познакомился с твоей матерью. Однажды мы разговорились — и этот разговор больше не обрывался.
— Даже на финальном этапе.
— Даже когда мы уже не могли ничего сказать, не сшибаясь лоб в лоб, даже когда нам стало нечего друг дружке сказать. Разговор так и не оборвался.
— Я тебе верю.
— С первого дня.
— В Италии, — сказала она.
— Да. Верно.
— И второй день. У церкви, — сказала она. — Вы вдвоем. Вас кто-то сфотографировал.
Он вскинул голову и внимательно уставился на нее — казалось, гадал, что ей еще известно. А она и не думала рассказывать, что именно выяснила, и признаваться, что не пыталась выяснить больше. Не обложилась в библиотеке книгами о подпольных организациях того периода, не искала в Интернете следы некого Эрнста Хехингера. Мать ничего такого предпринимать не стала, и она — тоже.
— Пора на рейс.
— Что бы ты делал без своих перелетов?
— Всегда на какой-нибудь рейс да пора.
— Где бы ты поселился? — спросила она. — Если выбирать один город, то где?
Он прилетел на день, даже без чемодана. Свою нью-йоркскую квартиру он продал, свои дела здесь свел к минимуму.
— Пожалуй, я не готов задумываться об этом, — сказал он. — Живи я в одном городе, он стал бы для меня капканом.
В ресторане его знали: официант принес бренди за счет заведения. Они посидели еще немного, до сумерек. Она поняла, что больше никогда его не увидит.