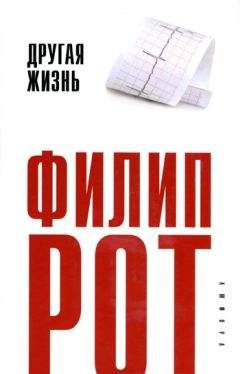Мой муж убивал людей в четырех войнах, но не потому, что он ловит кайф от убийства. Он не одержим идеей убийства. Он думает, что убийство — это ужас. Никакой идеи в этом нет. Он убивал, чтобы защитить крохотную страну, чтобы оберечь измученную в сражениях нацию; он убивал, чтобы его дети, когда вырастут, могли жить в мире и спокойствии. Он не обладает талантом писателя, у него нет дара к сочинению историй про неслыханные по жестокости преступления и приключения несуществующих убийц, он — обыкновенный человек, у которого есть реальный опыт убийства реальных людей на Синае, и на Голанских высотах, и на иорданской границе. Он воевал не ради славы писателя, создающего бестселлеры, он воевал, чтобы не допустить уничтожение еврейского народа!
— Так что вы хотели спросить у меня? — задал я вопрос.
— Я хочу знать: почему книги этого еврея из диаспоры, полные нездоровых идей, восхваляются в журнале «Тайм», а наш отказ жить в окружении врагов, которые стремятся уничтожить нас на собственной земле, тот же журнал «Тайм» называет чудовищной еврейской агрессией? Вот что я хотела у вас спросить.
— Я здесь не представляю ни «Тайм», ни какой-либо иной журнал. Я приехал навестить Генри.
— Но вы же не неизвестно кто, — язвительно возразила она. — Вы — знаменитый писатель, прозаик, романист; более того, вы писатель, который пишет о евреях.
— Сидя за этим столом, в этом поселении, трудно поверить, что писатель может писать о чем-нибудь еще, — парировал я. — Послушайте, сочинять про насилие и низменные инстинкты, вырывающиеся у криминальных элементов на свободу, — это вовсе не то же самое, что быть сторонником идей насилия. Не вижу никакого лицемерия или малодушия в том, что писатель не выходит на улицу и не делает то, о чем пишет, не воплощает в реальность кровавые сцены, изображенные в мельчайших и жутких деталях. Лицемерие и малодушие состоит в том, что вы отворачиваетесь от того, что знаете.
— Итак, — вмешался Липман, — ты хочешь сказать, что мы не такие лапочки, как твои американские писаки еврейского происхождения?
— Я говорил совсем не это.
— Но это же правда, — улыбнулся он.
— Я говорил, что нельзя рассматривать литературу так, как это делает Дафна, под весьма специфическим углом зрения. Я говорю, что писателю совсем не обязательно связываться с преступным миром, чтобы разрабатывать эти темы в своем творчестве. Я не спорю, кто хороший, а кто — нет. У писателей доброта бывает убийственна, не так, как у других людей. Я только возражаю против грубого искажения сути дела.
— Грубое искажение? Нет, это чистая правда. Мы не похожи на интеллектуальных лапочек и паинек-гуманистов с менталитетом галута. Мы не изысканные, мы не рафинированные интеллигенты, и нам наплевать на вежливые улыбочки. Все, что говорила Дафна, — это то, что у нас нет возможности витать в облаках и предаваться фантазиям, как это делаете вы, американские писатели-евреи, сочиняя истории о насилии и преступлениях. Еврей, который сидит за рулем школьного автобуса и едет мимо арабов, швыряющих камни в его ветровое стекло, не фантазирует, сочиняя истории про насилие, он вживую сталкивается с насилием, и он борется с этим насилием. Мы не мечтаем о применении силы — мы и есть сила. Мы не боимся взять в руки власть, чтобы выжить, и не боимся жестко применять ее, мы не боимся стать хозяевами. Мы не хотим уничтожить арабов — мы просто не хотим, чтобы они уничтожили нас, и мы не позволим им сделать это. В отличие от милых дяденек и тетенек, живущих в Тель-Авиве, у меня нет арабофобии. Я могу жить с ними бок о бок, и я это делаю. Я даже умею говорить с ними на их языке. Но если араб бросит ручную гранату в дом, где спят мои дети, я не стану отвечать ему фантазиями о насилии, которое изображают в романах и показывают в кино на потребу публике. Я — не зритель, сидящий в уютном кинозале, я не актер, снимающийся в голливудском боевике, я — не писака из породы американских евреев, который делает шаг назад и с расстояния оценивает реальность, исходя из собственных целей. Нет! Я тот, кто отвечает насилием на насилие, если видит перед собой реального врага, и мне не нужна поддержка журнала «Тайм». Журналисты, видите ли, устали писать о том, как евреи превращают пустыню в цветущий сад, — им это надоело как горькая редька. Им надоело освещать в прессе, как на евреев совершают неожиданное нападение, а они выходят победителями из всех войн. Теперь они хотят описывать жадного, распоясавшегося еврея, который жаждет переступить границы своей территории. Араб — Благородный Дикарь против Еврея-Выродка, Еврея-Колониалиста, Еврея-Капиталиста. Теперь журналист приходит в восторг, если араб-террорист приглашает его в свой лагерь беженцев и, изящно демонстрируя свою арабскую гостеприимность, изящно наливает ему чашечку кофе на виду у всех борцов за свободу, сгрудившихся вокруг; и вот этот репортер думает про себя, что он рисковый парень, который, пренебрегая опасностью, пьет кофе с революционером, сверкающим черными глазами; и араб тоже изящно пьет кофе, говоря ему, что его храбрые герои, ведущие партизанскую войну, очень скоро сбросят всех гребаных сионистов в море. Вот от этого захватывает дух: это не то, что хлебать борщ рядом с носатым жидом.
— Плохие евреи создают самые лучшие материалы для публикаций, — вмешалась Дафна. — Но мне незачем говорить это Натану Цукерману и Норману Мейлеру. Плохие евреи продают свои газеты так же, как вы продаете свои книги.
«Она просто душка», — подумал я, проигнорировав ее слова. Предоставив Мейлеру право защищать Мейлера, я решил, что уже достаточно высказался в свою защиту, пройдясь по всем пунктам обвинения, предъявленного мне.
— Скажи мне, — продолжал Липман, — может ли еврей сделать хоть что-нибудь, чтобы от этого не воняло еврейством до небес? Есть гоим, для которых мы — вонючки, потому что они смотрят на нас сверху вниз, и есть гоим, для которых мы — вонючки, потому что они смотрят на нас снизу вверх. И затем есть еще гоим, которые смотрят на нас и снизу вверх и сверху вниз одновременно, — вот те по-настоящему ненавидят нас. И конца-краю этому не видно. Сначала всех бесила клановость евреев, потом — нелепость и абсурдность феномена еврейской ассимиляции, теперь всех бесит независимость еврейского государства — этот факт им кажется неприемлемым и несправедливым. Сначала для всех была отвратительна еврейская пассивность: еврей-слабак, еврей-приспособленец, еврей, который покорно, как овца, идет на собственное заклание. А теперь он не просто омерзителен — он настоящий злодей, потому что стал воинственным и умеет показать свою силу. Сначала для крепких телом и духом арийцев была омерзительна болезненность евреев: нескладные евреи с хрупким телосложением, ссужающие деньги и торгующие книгами; теперь омерзение вызывают возмужавшие еврейские мужчины, которые умеют использовать свою силу и не боятся взять в руки власть. Сначала вызывали осуждение те, кого называли безродными космополитами, — чужие для всех, странноватые и не вызывающие доверия. Теперь не такими, как все, стали евреи, которые имеют наглость полагать, что сами могут выбирать свою судьбу и жить у себя на родине, как и все другие народы на свете. Послушай, арабы могут остаться и жить здесь, и я могу остаться и жить здесь, и мы с ними можем жить в мире и гармонии. Они могут выбрать себе любой образ жизни, заниматься тем, чем хотят, кроме одного: они не должны требовать для себя государственный статус. Если они хотят именно этого, если они не могут дышать без этого, пусть едут в любое арабское государство и там получают государственный статус. На свете существует пятнадцать арабских государств, и они могут выбрать любое из них — до каждого не больше часа езды на автомобиле. Земли, занимаемые арабами, обширны, территория огромна, а Израиль на карте мира выглядит как маленькое пятнышко. В штате Иллинойс, к примеру, поместится семь Израилей, но Израиль — единственное место на всем белом свете, где евреи могут получить государственный статус. Вот поэтому мы никому не отдадим нашу землю.
На этом ужин закончился.
Генри вел меня по двум длинным улицам жилого квартала к месту моего предполагаемого ночлега — к дому пары поселенцев, уехавших к родственникам в Иерусалим отмечать Шаббат. Внизу, в арабском поселении, все еще горели фонари, а вдали, у вершины холма, как немигающий кровавый глаз, который в древние времена был бы истолкован как предвестник гнева Господня, светился сигнальный огонь радара на площадке с ракетными установками. Одна из ракет, приведенная в полную боевую готовность, стояла, гордо задрав нос, — ее было видно издалека, когда мы проезжали мимо по направлению к Хеврону.
— Следующая война, — произнес Генри, указывая на военную базу на вершине холма, — займет не более пяти минут.