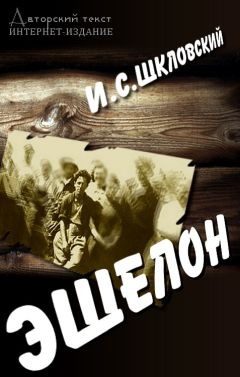На следующее утро со мной рассчиталось ЮНЕСКО, выдав мне денежки… точно за полтора дня! Вот он — волчий закон капитализма! Опоздал — соси лапу! У нас бы, конечно, заплатили сполна. Впрочем, и на том спасибо. Оставался еще один день этой пытки и было мне очень тяжело. Хорошо помню, как эти профессиональные трепачи, которых я уже успел люто возненавидеть, взахлеб обсуждали важнейший вопрос о необходимости устройства каких-то библиотечных коллекторов в Танзании. И вдруг они хором накинулись на величественно молчавшего представителя величайшей сверхдержавы: мол, что думает означенная сверхдержава по поводу этих самых коллекторов? Положение начинало смахивать на губернаторское (вернее, Остап-Бендеровское), и я вынужден был пойти с козырного туза. Соорудив мрачнейшую мину (а я это делать умею), представитель советской державы процедил: «Иль не фо па симплифье!» Боже, что тут началось! Они затараторили на трех языках, перебивая друг друга. Я сидел в мрачно-величественной позе. Заряда хватило до перерыва, во время которого они смотрели на меня с почтительным восхищением. Вот тут я понял наконец-то корень успешной карьеры того кэгэбэшника!
Так или иначе, я выдержал этот тяжелейший для меня день. Все кончилось очень пристойно. Проблемы разнообразия культур при наличии общности технологического прогресса получили мощный стимул для своего дальнейшего обсуждения. А передо мной встала, конечно, не такая грандиозная, но вполне конкретная проблема: как быть дальше? Срок моей командировки был 14 дней, два дня прошло, осталось 12. Двенадцать дней в Париже прожить одному! Голубая мечта многих миллионов жизней! Но когда я подсчитал свои финансы, мой восторг быстро испарился. После того как я заплачу за отель и оставлю на черный день полсотни франков, у меня на прожитье останется… 7 франков на день. Чтобы понять, что это такое, скажу, что самый дешевый обед в «селф-сервисе» стоил тогда 11 франков, а проезд в метро в один конец — 1 франк. Важнейшим обстоятельством был сезон моего визита: общеизвестно, что в августе все французы уезжают в отпуск. Следовательно, рассчитывать подкормиться путем хождения в гости к французским коллегам не приходилось. И уж совсем нельзя было рассчитывать на помощь нашего знаменитого посольства на Рю Гренель: меня бы немедленно отправили в Москву, так как по понятиям нашей дипсволочи мне решительно нечего было делать в Париже.
Но всякий понимает, что решение я мог принять только одно — остаться и голодать в Париже весь мой срок. Ни хрена — с голоду не умру, а больше такой возможности в жизни не будет. И началась моя удивительная жизнь в великом городе. Эти 12 дней я не забуду никогда. Сперва я было решил экономить на метро — все-таки 2 франка в день! По уже на второй день я понял, что этого делать нельзя, ибо из-за необходимости каждую ночь возвращаться в свой отель я всегда ходил бы по Парижу практически одним и тем же маршрутом. Значит, оставалось на жизнь 5 франков в день. Я их распределил таким образом: ежедневно на расположенном вблизи крохотном базарчике я покупал у нормандских крестьянок кило превосходнейших яблок — это 2,5 франка. Оставшиеся 2,5 франка я тратил на покупку у одной старушки-торговки воткнутой в свежую булочку вкуснейшей горячей сосиски, обмазанной горчицей. Старушкин лоток находился на перекрестке двух знаменитейших парижских бульваров — Сен-Мишель и Сен-Жермен. Этим, собственно говоря, и объясняется, почему я выбрал именно данную старушку. Обычно, какой бы я маршрут не пропетлял в Париже, точно к 18 часам, я, голодный до судорог, выходил на мою старушку. Скоро она меня стала узнавать и уже издали кричала: «Мсье Жозеф!» Прелесть, а не старушка! В прошлом году, спустя 13 лет, я снова побывал в Париже. Старушки, конечно, уже не было, но до боли знакомый перекресток не изменился совсем. И когда я подходил со стороны Нотр Дам к этому столь памятному для меня перекрестку, у меня, как у павловской собаки, началось обильное слюноотделение… Какая же это была фантастическая жизнь! Уже уезжая из Парижа, я вычислил, что выходил по сотням различных авеню и рю великого города свыше 300 километров! За все свои поездки в Ленинград я там столько не выходил. И я могу смело сказать теперь, что после Москвы из всех городов на свете я больше всего ходил по Парижу.
Очень болели ноги. Ведь всего лишь за полгода до этой поездки я перенес инфаркт и заново учился ходить. Все время хотелось посидеть, а это в Париже далеко не просто! Казалось бы — садись за столик в кафе, на свежем воздухе — и дыши, вытянув гудящие ноги. Даже в сравнительно удаленных от центра районах города, соответствующих нашему московскому Садовому кольцу, на каждые полсотни метров тротуара приходится по кафе. Днем обычно они пустые. Я выбирал самый далекий столик и начинал невеселую игру, засекая время. Не позже, чем через 20 секунд передо мной (откуда?) вставал молчаливый гарсон с блокнотом и карандашом и ставил на столик стакан холодной воды. Что, мол, мсье будет заказывать? А мсье вспоминал наши убогие московские ресторации и общепитовские заведения, где — о счастье — можно дожидаться такую родную, грязноватую официанточку не меньше получаса! О глупец! Сколько раз я кипел в этих ожиданиях и как бы славно сейчас подождать этого смотрящего на тебя так бесстрастно малого хотя бы 10 минут! Мсье считает каждый франк и не может позволить себе даже чашечку кофе. Преодолевая боль в ступнях, он поднимается и плетется дальше. Вот так-то! Ничего не попишешь, жаловаться некому — капитализм, туды его в качель!
Когда становилось от бесконечных хождений совсем невмоготу, я спускался под один из знаменитых парижских мостов, прямо к кромке грязноватой Сены и ложился, блаженно вытягивая ноги на камни набережной. Обычно рядом располагались клошары — парижские бродяги. Они совершенно безопасны и добродушно-веселы. Клошары под постами Сены едят — у всех есть корзинки, набитые снедью и вином. Запахи их трапезы невольно волнуют меня — ведь я гораздо беднее, и конечно, такой роскоши, как вино и всякого рода сэндвичи позволить себе не могу. Мимо проходят деловитые парижане и слоняются туристы — основное население Парижа в августе. Им нет никакого дела до меня — это и хорошо, и плохо. Иногда я остро чувствовал свое одиночество и заброшенность. Но гораздо чаще я просто лежал без всяких мыслей и смотрел на высокое безоблачное небо — все 12 дней стояла идеальная погода.
Потребность в общении с людьми я удовлетворял случайными встречами. Так однажды я решил посидеть в Люксембургском саду. Этот сад меня привлекал еще и тем, что в нем на зеленых лужайках в кажущемся беспорядке были расставлены небольшие стулья с гнутыми свинцовыми ножками. Приятнее все-таки сидеть отдельно, а не на общественно-казенной скамейке. По глупости я не понимал, что за это удовольствие надо платить 1 франк — дань собирала старуха — одна на всю территорию сада, что и ввело меня в заблуждение. Я едва успел, сидя на стульчике, блаженно расслабиться, как неожиданно за своей спиной услышал безупречно-правильную, хотя и несколько архаическую, русскую речь. Говорили три старые женщины, из них две — совсем древние. Не оборачиваясь, я спокойно заметил:
— Как приятно встретить в Париже соотечественниц!
Они вежливо согласились со мной, что действительно приятно. Я сделал галантный жест и, не ведая о собирающей дань старухе, попросил их присесть рядом.
— Спасибо, мы постоим, — сказали старые парижанки. Хорош бы я был, если бы они сели!
— Откуда Вы? — спросила самая старая.
— Из Москвы.
— И давно?
— Да вот уже неделя.
Они как-то странно недоверчиво на меня посмотрели. И тут я с удивлением понял, что эти женщины принимают меня за эмигранта, по-видимому, второй волны.
— Да нет же, я действительно советский, неделю назад приехал из Москвы в командировку!
Не верят. И одна из них стала меня испытывать:
— А где похоронен Паустовский? (Паустовский накануне умер — естественно, что мои собеседницы всякого рода похоронные дела принимали близко к сердцу).
— Кажется, на Новодевичьем, — неуверенно ответил я.
— А вот и неверно. Он похоронен в Тарусе.
Почувствовав, что окончательно разоблачен как самозванец и что надо выходить из идиотского положения, я стал лихорадочно шарить по карманам и нашел там два сильно помятых использованных билета на подмосковную электричку. Этим и реабилитировался.
— А Вы откуда?
— Мы из Тифлиса! — с достоинством сказали мои собеседницы.
— Из Тбилиси, значит?
— Только не говорите, пожалуйста, это ужасное слово. Мы из Тифлиса!
— Знайте же, что через две недели я буду в вашем Тифлисе.
Это была сущая правда: предстояла командировка в столицу солнечной Грузии на какую-то конференцию.
— У нас к Вам огромная просьба: подойдите к нашему старому дому и внимательно посмотрите на него. Адрес мы дадим.