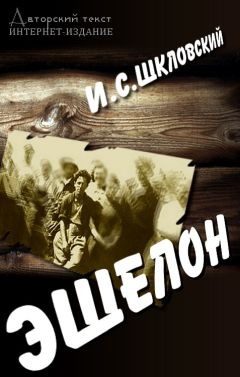— Как приятно встретить в Париже соотечественниц!
Они вежливо согласились со мной, что действительно приятно. Я сделал галантный жест и, не ведая о собирающей дань старухе, попросил их присесть рядом.
— Спасибо, мы постоим, — сказали старые парижанки. Хорош бы я был, если бы они сели!
— Откуда Вы? — спросила самая старая.
— Из Москвы.
— И давно?
— Да вот уже неделя.
Они как-то странно недоверчиво на меня посмотрели. И тут я с удивлением понял, что эти женщины принимают меня за эмигранта, по-видимому, второй волны.
— Да нет же, я действительно советский, неделю назад приехал из Москвы в командировку!
Не верят. И одна из них стала меня испытывать:
— А где похоронен Паустовский? (Паустовский накануне умер — естественно, что мои собеседницы всякого рода похоронные дела принимали близко к сердцу).
— Кажется, на Новодевичьем, — неуверенно ответил я.
— А вот и неверно. Он похоронен в Тарусе.
Почувствовав, что окончательно разоблачен как самозванец и что надо выходить из идиотского положения, я стал лихорадочно шарить по карманам и нашел там два сильно помятых использованных билета на подмосковную электричку. Этим и реабилитировался.
— А Вы откуда?
— Мы из Тифлиса! — с достоинством сказали мои собеседницы.
— Из Тбилиси, значит?
— Только не говорите, пожалуйста, это ужасное слово. Мы из Тифлиса!
— Знайте же, что через две недели я буду в вашем Тифлисе.
Это была сущая правда: предстояла командировка в столицу солнечной Грузии на какую-то конференцию.
— У нас к Вам огромная просьба: подойдите к нашему старому дому и внимательно посмотрите на него. Адрес мы дадим.
Тронутый такой редкой формой ностальгии, я обещал и через пару недель свое обещание выполнил.
У меня была еще одна запомнившаяся встреча со старыми русскими эмигрантами. Как-то раз я сидел на скамейке напротив Эколь Милитер вблизи моего отеля. Рядом присел старик, довольно скоро признавший во мне советского человека. Он оказался русским эмигрантом, впавшим в крайнюю бедность. Я сказал ему, что очень бы хотел побывать на Парижском русском кладбище Сен-Женевьев. Старик прослезился «В первый раз слышу такое от советского человека. Обычно их почему-то тянет на Пер Ляшез. Сен-Женевьев — это очень далеко, метро туда не ходит, можно только машиной. У меня машины нет, но у моего товарища, тоже русского, есть старенький Пежо. Приходите на это место завтра в восемь».
И вот я в обществе стариков-эмигрантов брожу по чистенькому и, несмотря на луковку церквушки, совсем не русскому кладбищу. Боже мой, кого здесь только нет! Строем похоронена белая гвардия — отдельно лежат корниловцы, марковцы, дроздовцы. Впрочем, Деникина здесь нет — он похоронен в Ницце. А вот Кшесинская; неподалеку — Львов, Гучков и вообще все Временное правительство. Туда, дальше — Бережковский, Гиппиус и трогательно простая могила Буниных. На другом конце кладбища похоронена Вика Оболенская. А рядом надгробие с лаконичной надписью: «Зиновий Пешков — легионер». Здесь похоронен Зяма Свердлов — родной брат первого президента Советской России, человек фантастической судьбы. Его, совсем молоденького, перед первой мировой войной усыновил Горький (иначе еврею нельзя било бы жить в Москве). В качестве секретаря Алексея Максимовича он уехал на Капри, где их застала война. Неожиданно в Зяме прорезался ярый оборонец, он на этой почве поссорился с приемным отцом и, самоутверждаясь, поступил в знаменитый французский иностранный легион. Участвовал в боях, был тяжело ранен. Пролив кровь за Францию, он получил французское гражданство. Войну окончил майором, потерял руку. После первой мировой войны — головокружительная карьера во французской армии. Дослужился до генеральского чина, был начальником отдела французского генерального штаба, лучший друг Де Голля, бывшего чином ниже его, один из организаторов Сопротивления. Благополучно скончался в начале шестидесятых. Я стоял у надгробной плиты старого легионера и думал о судьбе двух братьев. Кому же в жизни повезло больше? Третьего, самого младшего братца, довольно бездарного, хотя и красноречивого лектора-международника, я знаю лично. Он и сейчас живехонек. Но этот третий не в счет.
Итак, я ходил по Парижу. «Ходил и ходил, не щадя каблука»… Кстати, пару слов о прекрасном стихотворении Маяковского, откуда взяты эти строки. Это — «Сезанн и Верлен». Там вначале написано: «… Мне скучно здесь, в отеле «Истрия» на коротышке рю Кампань Премьер, мне жмет — парижская жизнь — не про нас, в бульвары тоску рассыпай! Налево от нас — бульвар Монпарнас, направо — бульвар Распай». Каждый раз, когда я бываю в Париже, я иду на эту, действительно короткую улочку, соединяющую два знаменитых бульвара и захожу в жалкий (всего одна звездочка!) отель «Истрия». Странно, почему этот нищий, даже непристойно нищий отель так любил Владимир Владимирович…
А в музеи, даже в самые знаменитые, я не любил ходить. Тогда в Париже я под музеи выделил две субботы и два воскресенья, когда посещения бесплатны. Самое сильное впечатление было все-таки от Венеры Милосской, перед которой я простаивал часами.
Само собой разумеется, что ни о каких специфических парижских развлечениях я не мог даже думать. И все же судьба рассудила по-своему даже в моей, казалось бы ясной своей простотой ситуации. Как-то вечером я «прочесывал» район Бульвар Клиши — подножие Монмартрского холма — знаменитый своими дешевыми злачными местами. Последние, конечно, по причине полного безденежья меня совершенно не интересовали — я больше наблюдал тамошнюю специфическую публику. Острый приступ голода напомнил, что время торопиться к моей старушке, чей лоток находится на противоположном, левом берегу Сены, т. е. довольно далеко. И тут меня всего захватила одна простая мысль: «Какого черта мне, такому голодному, сейчас переть на тот берег Сены? Ведь в Париже на каждом шагу можно перекусить. Не сошелся ведь свет клином на той симпатичной старушке?» Эту мысль, как показали дальнейшие события, мне несомненно нашептывал сам дьявол. Я стал оглядывать окрестные лотки, благо они были здесь на каждом шагу. Тут я не имел права ошибиться! Я резонно решил остановить свой выбор на лотке, вокруг которого толпилось максимальное количество небогатых туземцев. Такой лоток находился буквально рядом. Вокруг него стояла компактная группа алжирцев и негров и каких-то неопределенной национальности брюнетов. Меня поразила быстрота, четкость работы продавца горячих котлеток, заложенных в булочку (порция те же два с полтиной). Он действовал как автомат. Завороженный и голодный, я пробился к лотку и дал продавцу бумажку в 5 франков. Молниеносно я получил свой сэндвич, а продавец тут же стал обслуживать какого-то черного. До меня не сразу дошло, что меня, нищего, эта скотина нагло обсчитала! Ком подошел к горлу, котлетка потеряла свой первозданный восхитительный вкус. Некоторое время я стоял, смотря очень печальными еврейскими глазами на наглеца. Никакой реакции! Слава богу, я не стал выяснять с ним отношения, как это должен был сделать нормальный советский человек. Хватило ума понять, что в лучшем случае меня бы избили. Дело, конечно, дошло бы до посольства, и меня, голубчика, немедленно отправили бы домой в Москву.
В мерзком состоянии духа я отошел от опасного лотка. И поделом тебе, скотина! Не изменяй привычкам, уважай традиции. А как хорошо было у старушки! А вообще — противно! Ведь отказываешь себе буквально во всем. И между прочим, очень вероятно, что в Париже я больше никогда не буду, а если и буду, то, конечно, не один.
Тут мой взгляд скользнул по огненной рекламе «Перманент стриптиз» — такие заведения здесь буквально на каждом шагу, и я на них никакого внимания никогда не обращал. На этот раз я подошел к двери ближе и прочел: «2,5 франка». Всего лишь! Как раз та нищенская сумма, которую только что украл у меня торговец сэндвичами! Не раздумывая, я вошел в темный «предбанник» и подошел к кассе. Осторожно справившись у почтенного вида дамы-кассирши заведения о цене, я купил билет (сдачу дала аккуратно) и вошел в полутемный зал, где как раз начиналось действо. Все места у прохода были заняты, пахло какой-то дрянью (чеснок?). Я спустился по довольно крутой лестнице амфитеатра прямо к сцене и в первом ряду сел на свободное кресло, очень близко от разоблачавшейся на сцене пышной блондинки. Мне бросились в глаза крупные капли пота, покрывавшие ее полную, розовую спину. Звучала музыка, какая-то нервная и «рваная». Эти капли пота на спине намертво убивали тот эффект, на который это зрелище было рассчитано. Единственное, что оставалось — это впечатление тяжелой работы в душном, вонючем помещении. Каково-то ей, бедняжке, вкалывать так шесть часов подряд!
Ко мне подошел одетый в ливрею мальчик и, насколько я его понял, спросил: «А что мсье будет пить?» Мсье ответил в том смысле, что пить он ничего не собирается. Тут до меня дошла простая механика, приводящая в действие это заведение: 2,5 франка — это цена входного билета, а дальше тут надо пить спиртное с огромной наценкой. Между тем, потная блондинка приступила к кульминационной части своих разоблачений. И тут я увидел напротив себя склонившегося дико волосатого здоровенного громилу, который очень серьезно спросил у меня: «А все-таки что мсье будет пить?» Дело оборачивалось скверно. Я пролепетал: «Пиво!» «Пива нет», — прозвучал так хорошо знакомый москвичам ответ. «Тогда я ничего не буду пить — здоровье не позволяет!» «В таком случае пусть мсье соблаговолит покинуть помещение!» Я поднял глаза на сцену — и как раз вовремя! После этого я с достоинством, хотя и не мешкая, оставил помещение.