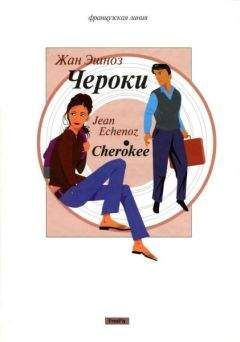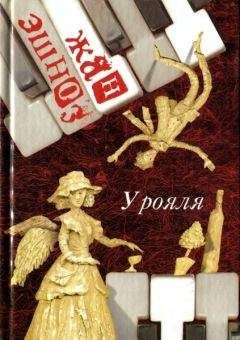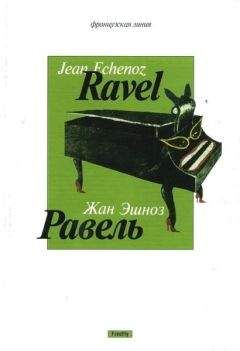Деревянные скамьи ограждали аллею, ведущую к дому, от засохших деревьев нездешних пород. Впрочем, здесь и кроме деревьев было много погибших причудливых растений: вся эта флора, явно рожденная в другом климате, медленно умирала, и только жесткая живучая агава, раскинувшая листья у ворот, еще не окончательно стала мумией. Зато поодаль высились вполне здоровые ели, такие же чуждые этому экзотическому декору, как швейцарское шале — хлебным деревьям, а эскимосская иглу — бугенвиллеям.
Дом приник задним фасадом к черной гранитной скале и, вероятно, был даже частично встроен в нее, ибо над крышей, прямо в каменной глыбе, зияли четыре-пять окошек разной величины: широкое, как эркер, узкое, как бойница, круглое зарешеченное. И нигде ни живой души, только это вычурное строение, а перед ним ботаническое кладбище. Скала тянулась к востоку, где смыкалась с первыми хребтами ближайшей горы, а затем внезапно поворачивала на запад, открывая взгляду другую, тоже довольно близкую гору между чахлой травой равнины и серой бездной небосвода. Стекла в машине были опущены, и, когда она затормозила перед воротами, в окна ворвался резкий ветер. Все вышли и направились к двери, в которую блондин пропустил первым Жоржа. В холле стоял сырой мрак, как будто они сразу попали в недра скалы. Жорж шагнул вперед, как вдруг его осенило, и он обернулся к своему спутнику:
— Это дом Ферро, верно?
Тут пожилая женщина произнесла что-то, чего Жорж не понял, и вдруг Жорж получил жестокий удар в плечо, нанесенный сзади, и Жорж вскрикнул и тут же получил второй удар, нанесенный сверху в затылок, и вселенная сжалась в одну слепящую белую вспышку, которая на миг озарила черное пространство вокруг Жоржа, а потом медленно угасла — так гаснут экраны некоторых телевизоров, когда их выключают.
Жорж привязан к столбу посреди бескрайней степи. Вдали звучит приглушенная музыка, ее последний аккорд умирает внезапно, как тухнет огонек спички. Затем слева от него раздается зловещий треск; Жорж поворачивает голову и видит, что на него надвигается дракон. Он в два раза больше Жоржа. У него жуткая зубастая пасть, когтистые крылья и тупой взгляд, он устрашающе квакает и напоминает доисторического птеродактиля. Его чешуя окрашена в пепельно-бело-желтые цвета. Подобравшись к Жоржу, он склоняется над ним, и Жорж понимает, что эта птичка намерена сжевать его голову. Жорж пробует закричать, но не может издать ни звука. Он бьется в своих путах, открывает глаза. Перед ним комната в бежево-серых тонах, коричневые задернутые портьеры, маленькая желтая лампа, бежево-серые картины на стенах. Одна из картин изображает человека на улице; человек отбрасывает тень, более длинную, чем он сам, она лежит у его ног, указывая полдень плюс-минус двадцать минут.
Какая-то женщина разглядывает эту картину, стоя спиной к Жоржу; он узнает в ней свою пожилую спутницу — наверняка мать того высокого белобрысого типа, а он, Жорж, лежит на спине в большой кровати, и его запястья и лодыжки прикованы наручниками к медным прутьям спинок. Повернув голову еще чуть налево, он обнаруживает Веронику; она лежит рядом, скованная так же, как он, но выглядит спящей. Пожилая женщина обернулась, и Жорж быстро закрыл глаза: пусть думает, что он тоже спит. Птеродактиль куда-то исчез. Жорж услышал, как женщина подошла к кровати, наклонилась к ним, — он различил даже ее дыхание, — потом переложила на столике какие-то стеклянные и металлические предметы и вышла из комнаты, заперев за собой дверь; на лестнице послышались ее удалявшиеся шаги.
— Я не сплю, — шепнула Вероника.
— Я тоже.
За дверью стояла тишина, но они на всякий случай говорили вполголоса, первой начала рассказывать она. Бок и Риперт решили запереть ее в какой-то жалкой, наспех снятой конуре, откуда ей ничего не стоило бы сбежать, вот только времени не хватило. Среди ночи в комнату, где отдыхали агенты Бенедетти, заявились двое мужчин, один такой белесый, атлетического сложения, второй сухощавый брюнет, не то итальянец, не то американец (я знаю, о ком ты говоришь, вставил Жорж). Сперва они вроде бы поладили с Боком и Рипертом, но потом у этой четверки возникли какие-то разногласия, и в конце концов ночные гости уехали, захватив с собой Веронику. Дальше наверняка было еще что-то, но это напрочь выпало у нее из памяти, и она проснулась на этой кровати, снова заснула и снова проснулась и на сей раз увидела рядом с собой Жоржа. Потом они стали вспоминать то время, когда жили вместе, и оно казалось им теперь таким далеким, почти доисторическим, почти сказочным, а ведь они встретились около Зимнего цирка всего-навсего месяц тому назад.
Дверь открылась, вошел Берримор, а за ним Батист. Не сказав ни слова, они освободили от наручников Веронику и Жоржа и повели этого последнего к выходу, заперев молодую женщину в комнате. Жорж шагал за ними следом: по коридорам и по ступеням, куда-то вверх, потом куда-то вниз, по площадкам, в боковые двери. На полпути они сделали остановку в узенькой комнатке, напоминавшей ризницу, где Жоржа и впрямь обрядили в подобие стихаря, застегнутого на вороте и запястьях. Одеванием заведовала, естественно, Беатрис, но она, как и двое мужчин, сделала вид, будто не узнаёт Жоржа.
Которого затем усадили во что-то типа курульного кресла, посреди небольшой безмолвной группы людей, с головы до ног одетых в белое и не спускавших глаз с задернутого занавеса. Четверо бритоголовых мужчин тесно окружили Жоржа, искоса следя за ним; они выглядели отупевшими и в то же время взвинченными.
Просторный круглый зал был несоразмерно высок: его купол, сужаясь к центру, переходил в вертикальный штрек, в верхнем отверстии которого брезжил дневной свет; все вместе напоминало по форме бутылку от бордо. Этот узкий полый цилиндр, пробитый в камне, в самом сердце скалы, отвечал духу предстоящей церемонии куда лучше, чем бывшая темноватая мастерская на улице Амло. Далеко вверху сквозь толстое стекло, замыкавшее «горлышко бутылки», Жорж разглядел голубой кружок неба с облачком, похожим на окурок. Белый занавес стоял перед собравшимися четким прямоугольником, словно лист бумаги. Он был недвижим. И все были недвижимы. Внезапно он раздвинулся — рывком, как рвется бумажный лист, — открыв уже знакомую мизансцену: кровать с лежащим на ней укрытым телом, маленькую фисгармонию Farfisa и два табурета-треножника — на одном кастрюля, на другом ведерко, — за которыми стояли массажист и человек в маске.
— Верховный Луч! — провозгласил тот, что в маске. — Седьмой Луч!
И Жорж узнал голос Фреда.
— Обрати к нам солнце! — подхватили хором собравшиеся.
— Восславим семь святых имен! — завопил вдруг кто-то из них. — Бакстер! Дешноук…
— Не спешите, не спешите, — остановил его безликий, взмахнув рукой. — Это попозже…
— Аберкромби! Северинсен! Краболь! — упрямо продолжал адепт.
— Мартини и Даскалопулос, — покорно завершил безликий. — Да будут благословенны эти святые имена. Мы еще вернемся к ним.
Жоржу никак не удавалось рассмотреть глаза Фреда сквозь крошечные прорези в его маске.
— Братья и сестры, — продолжал тот, — настал знаменательный день для наших сердец и нашего слуха. Грядет восьмое имя, приуготовленное семью предыдущими. Оно скоро прозвучит. Вот он, решающий миг. По этому случаю мы принесем в жертву добровольца, — добавил он, ткнув пальцем в Жоржа. — Когда Луч осенит наши головы, — продолжил он, воздев палец к голубому кружочку в потолке, — мы посвятим сей прах далекому ультрафиолету. Пусть же явится Луч! — воскликнул он с неожиданным пылом. — Пусть встанет Он в зените и зайдет в надире!
— Пусть явится Луч, пусть явится Луч! — страстно потребовали молящиеся.
Казалось, они не питают враждебных чувств лично к Жоржу. Более того, на него вообще никто не обращал внимания, кроме четверки бритых мужчин, высокого блондина, который дважды глянул в его сторону, и Роже Бриффо, стоявшего в первом ряду толпы сектантов. Осведомитель носил такой же «лучезарный» наряд, как остальные, но ворот белой блузы был ему широковат, и в этом декольте поблескивала галстучная булавка. Лицо выражало легкий скептицизм, но он все же старательно выдерживал темп, скандируя вместе с соседями: «Пусть явится Луч, пусть явится…»
— Сейчас прозвучит Имя! Пора! — возгласил Фред.
— Да прозвучит Имя! — исступленно грянул хор.
В глубине сцены открылась дверь, и появился носитель восьмого имени.
Гиббс был облачен в белый смокинг с белой рубашкой и белой бабочкой, на голове у него красовался убор эмиров — куфия из белой ткани, скрепленная медным обручем. Он выступил вперед, также сделав вид, будто не видит Жоржа, и не обернулся даже тогда, когда Фред указал ему на пленника, повторив свой неприятный намек на неизбежное жертвоприношение. Проповедник и англичанин обменялись несколькими священными заклинаниями и преклонили колени возле узкого ложа. Наступила мертвая тишина. Гиббс обернулся к пастве.