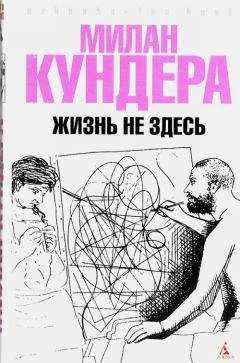Он страстно мечтал воскресить старые красоты, от которых современное искусство (в предательской гордости) воротило нос: закат солнца, розы, роса на траве, звезды, сумерки, долетавшее издали пение, мамочка и тоска по родному очагу; ах, какой это был прекрасный, близкий и понятный мир! Яромил возвращался в него с изумлением и умилением, подобно блудному сыну, что спустя долгие годы возвращается в свой дом, ставший ему чужим.
Ах, быть простым, совсем простым, простым, как народная песня, как детская считалка, как ручеек, как рыжая девушка!
Быть у источника вечных красот, любить слова даль, серебро, радуга, любить даже столь осмеянное словечко ах!
И некоторые глаголы очаровывали Яромила: особенно те, которые зримо изображали простое движение вперед: бежать, идти и еще больше плыть и лететь. В стихотворении, которое Яромил написал к годовщине дня рождения Ленина, он бросил в волны веточку яблони (этот жест очаровал его связью со старинными обычаями народа, пускавшего по воде веночки цветов), чтобы плыла она в страну Ленина; и хотя из Чехии в Россию не текут никакие воды, стихотворение — волшебная территория, где реки меняют свое течение. В другом стихотворении он написал, что однажды мир будет свободен, как аромат хвои, который перешагивает горы. А еще в одном вернулся к аромату жасмина, столь мощному, что даже превращается в невидимый парусник, плывущий по воздуху; он представлял себе, что всходит на палубу аромата и плывет далеко-далеко, до самого Марселя, где именно в то время (как писали в газете «Руде право») бастовали рабочие, чьим товарищем и братом он мечтал быть.
Поэтому в его стихах несчетное число раз появляется самый поэтичный инструмент движения, крылья: ночь, о которой повествует стихотворение, была полна тихого взмаха крыльев; крыльями были наделены желание, тоска, даже ненависть, и, естественно, на крыльях несется время.
Во всех этих словах была сокрыта жажда безмерного объятия, в котором словно оживала знаменитая строфа Шиллера: Seid umschlungen, Millionen, diesen kuss der ganzen Welt![5] Безмерное объятие заключало в себе не только пространство, но и время; целью плаванья был не только бастующий Марсель, но и будущее, этот волшебный остров в дали.
Будущее было когда-то для Яромила прежде всего тайной; в нем таилось все неведомое; оно влекло его и ужасало; оно было антиподом определенного, антиподом домашнего очага (поэтому в минуты тревоги он мечтал о любви стариков, счастливых тем, что лишены будущего). Революция, однако, придала будущему обратный смысл: оно уже не было тайной, революционер знал его назубок; знал его по брошюрам, книгам, лекциям, агитационным речам; оно не ужасало, напротив, вселяло уверенность посреди неуверенного настоящего, и революционер убегал к нему, точно ребенок к матери.
Яромил написал стихотворение о коммунистическом активисте, уснувшем на кушетке в секретариате поздней ночью, когда вдумчивое заседание утренней росой прикрылось (образ коммуниста борющегося никак нельзя было представить иначе, чем образом коммуниста заседающего); во сне позвякивание трамваев под окнами превращается у него в звон колоколов, всех колоколов мира, которые возвещают, что с войной навсегда покончено и шар земной принадлежит трудовому народу. Он понимает, что волшебным прыжком очутился в далеком будущем; он стоит где-то посреди полей, и к нему на тракторе приезжает женщина (на всех плакатах женщина будущего изображалась трактористкой) и с изумлением узнает в нем того, кого никогда не видела, некоего изнуренного работой мужчину из прошлого, того, кто пожертвовал собой, лишь бы теперь она могла радостно (и напевая) пахать поле. Она сходит со своей машины, чтобы встретить его; говорит ему: «Ты здесь дома, здесь твой мир…» — и хочет вознаградить его (господи, как эта молодая женщина может вознаградить старого, изнуренного поденщиной активиста?); тут трамваи на улице мощно зазвякали, и активист, спавший на узкой кушетке в углу секретариата, проснулся…
Яромил написал уйму новых стихов, однако не был доволен; пока знали их только он и мамочка. Он всякий раз посылал их в редакцию «Руде право» и каждое утро покупал газету; наконец на третьей странице вверху справа он нашел пять четверостиший со своим именем, напечатанным под названием жирным шрифтом. В тот же день он дал «Руде право» рыжуле и сказал, чтобы она хорошо просмотрела газету; девчушка долго не могла найти ничего достойного внимания (она не привыкла обращать внимание на стихи и потому имени, напечатанного рядом с ними, не заметила), и в конце концов Яромилу пришлось ткнуть в стихотворение пальцем.
«Я и не знала, что ты поэт», — сказала она, восторженно глядя ему в глаза.
Яромил поведал ей, что стихи он пишет уже очень давно, и вытащил из кармана еще несколько стихов в рукописном виде.
Рыжуля читала их, а Яромил сказал ей, что некоторое время назад перестал писать стихи и только теперь, когда встретил ее, снова вернулся к ним. Он встретил рыжулю, словно встретил Поэзию.
«В самом деле?» — спросила девчушка и, когда Яромил утвердительно кивнул, обняла его и поцеловала.
«Удивительно, — продолжал Яромил, — ты не только королева моих нынешних стихов, но и тех, которые я писал, еще не зная тебя. Когда я впервые увидел тебя, мне показалось, что мои старые стихи ожили и превратились в женщину».
Он с удовольствием смотрел в ее любопытное и недоумевающее лицо, а потом стал рассказывать, как несколько лет назад писал длинную поэтическую прозу, некое фантастическое повествование о юноше по имени Ксавер. Писал? Собственно, не писал, а скорее создавал в воображении его приключения и мечтал однажды их описать.
Ксавер жил совершенно иначе, чем другие люди; его жизнью был сон; Ксавер спал и видел сны; в одном сне он засыпал и ему снился другой сон, и в этом сне он снова засыпал и снова видел в нём сон; и, едва пробуждаясь от этого сна оказывался в предыдущем сне; и так он переносился из одного сна в другой и проживал, собственно, целую череду жизней; он пребывал в нескольких жизнях, переходя из одной в другую. Не прекрасно ли жить так, как жил Ксавер? Не быть пленником лишь одной жизни? Даже будучи смертным, все-таки проживать много жизней?
«Да, это было бы здорово», — заметила рыжуля.
И Яромил продолжал рассказывать о том, что, увидев ее однажды, он изумился, ибо самую большую любовь Ксавера он представлял себе именно такой: хрупкой, рыжей, слегка веснушчатой.
«Я страхолюдина!» — сказала рыжуля.
«Нет! Я люблю твои веснушки и твои рыжие волосы! Люблю тебя, потому что ты мой дом, моя родина, мой давний сон!»
Рыжуля поцеловала Яромила, и он продолжал: «Представь, весь рассказ начинался так: Ксавер любил бродить по задымленным окраинным улицам Праги; всегда проходил мимо одного полуподвального окна, останавливался рядом и грезил о том, что за этим окном, возможно, живет красивая женщина. Однажды окно было освещено, и он увидел внутри нежную, хрупкую рыжую девушку. Он не выдержал, распахнул настежь створки приоткрытого окна и впрыгнул внутрь».
«Но ты же убежал от окна!» — засмеялась рыжуля.
«Да, убежал, — сказал Яромил, — я испугался, что ко мне вернется мой сон; знаешь, как страшно, когда вдруг попадаешь в обстановку, какую до сих пор видел только во сне? В этом есть нечто ужасное, от чего тебе хочется убежать!»
«Да», — согласилась осчастливленная рыжуля.
«Итак, он впрыгнул внутрь, чтобы быть с ней, но потом пришел ее муж, и Ксавер запер его в тяжелом дубовом шкафу. И муж до сих пор там, уже превращенный в скелет. А Ксавер эту женщину отвел далеко-далеко, как отведу тебя я».
«Ты мой Ксавер», — признательно прошептала рыжуля Яромилу на ухо и начала изменять это имя на все лады: Ксавушка, Ксавик, Ксавчик, и всеми этими словечками называла его и долго, долго целовала.
Из множества Яромиловых посещений полуподвала девушки нам хотелось бы отметить то, когда она была в платье с нашитыми спереди от воротника до самого низа большими белыми пуговицами. Яромил начал расстегивать их, а девушка рассмеялась, ибо пуговицы были декоративными.
«Подожди, сама разденусь», — сказала она и подняла руку, чтобы потянуть сзади на шее замочек молнии. Яромилу, уличенному в неловкости, было неприятно, и, когда наконец он понял, как застегивается платье, захотел тотчас исправить промашку.
«Нет, нет, я разденусь сама, оставь меня!» — отступая от него, смеялась девушка.
Не желая показаться смешным, он не настаивал более, но был весьма недоволен тем, что девушка предпочитает раздеваться сама. В его представлении любовное раздевание отличалось от раздевания повседневного именно тем, что женщину раздевает любовник.