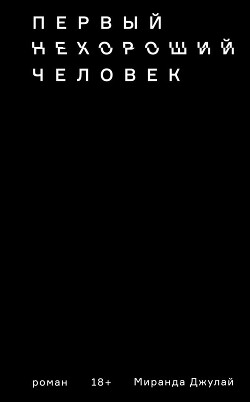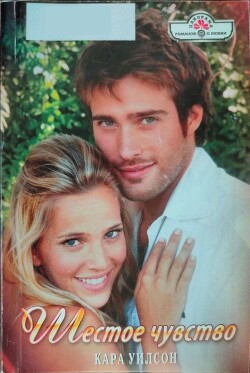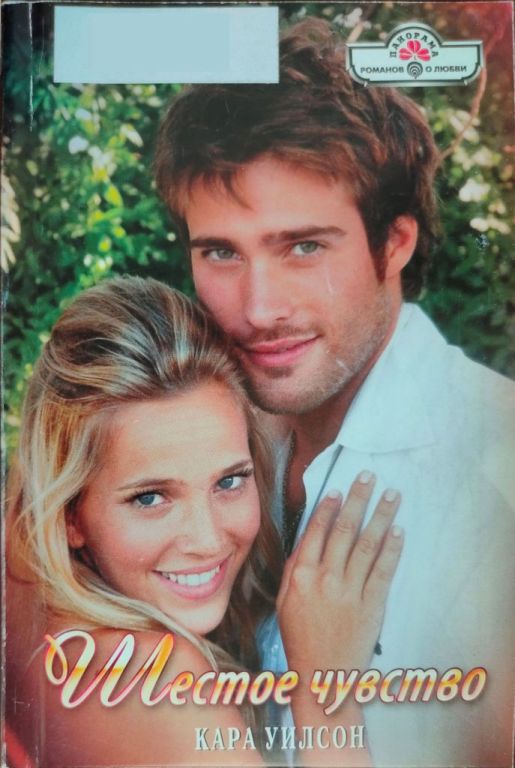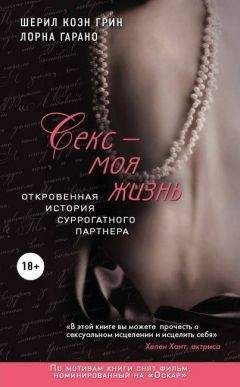– Это бабушка Новорожденного Мальчика Стенгла, – сказал он, представляя меня.
– Меня зовут Кэрри Спивак, – сказала женщина, выступая вперед.
– Кэрри – из «Семейных услуг Филомены».
На этом врач собрался уйти – вот так вот попросту. Я вцепилась в него.
– Не стоит ли нам подождать, получится ли…
Он глянул на свой карман: там была моя рука. Я ее оттуда вынула.
– Получится ли – что?
– У него выжить?
– О, он выживет. Крепкий пацан. Пусть покажет только, управляется ли он со своими легкими.
Кэрри из «Семейных услуг Филомены» вновь протянула руку. Я обняла Кэрри, эту хрупкую тростину. Он выживет.
Та шагнула назад из моих объятий – она не из тех христиан.
– Я приехала поговорить с вашей дочерью – это она, вон там?
– Нет.
– Не она?
– Сейчас не лучшее время.
– Конечно, не лучшее.
– Не лучшее?
– Она прощается, – сказала Кэрри.
– Это займет сколько-то.
– Вы правы. Это дуга усыновления.
– Дуга?
– Начало, середина, конец. Конец всегда одинаков.
– Ну, я не знаю.
– Это потому что сейчас самое начало. В начале никто не знает. Все уже происходит как надо.
– И сколько это длится?
– Недолго. Я обычно совсем не давлю, пусть гормоны делают свое дело.
– Ну примерно?
– Три дня. Через три дня станет как обычно.
Кэрри сказала, что вернется завтра и что не о чем тревожиться. Эми и Гэри уже едут.
– Они едут сюда?
– Ей не придется с ними знакомиться. Вот моя карточка, просто скажите ей, что она не одна.
– Она не одна.
– Отлично.
Кли упиралась лбом в инкубатор. Глаза у ребенка вновь были закрыты.
– Кто это?
– Врач сказал, он выживет. Сказал, что он крепкий пацан.
Она выпрямилась.
– Крепкий пацан? – Подбородок у нее дрожал. Она отщелкнула одну из круглых дверок и прижала губы к отверстию для руки. – Слыхал, милый малыш? – прошептала она. Его тощие рябые ручки вяло покоились поверх крошечного торса. – Ты крепкий.
Я оглядела палату – три дня включая сегодняшний? Или вчера был первый, а сегодня уже второй? Учитывала ли Кэрри, что мы вчера целовались, и целовались, и целовались? Я поморщилась от неловкости.
Мимо пронеслась медсестра.
– Прошу, – сказала она, времени на «прощения» у нее не осталось. Я посмотрела на родителей в другом углу палаты – на тех, что будут винить друг друга вечность напролет. Они здесь были как рыбы в воде, оба в равной мере, – как медсестра, врачи и Кли. Никто из них не осознавал, что сюда затесался самозванец, но скоро они поймут. Меня втянуло в драму обстоятельств, я вмешалась по ошибке.
Пора домой.
Он выживет, Кэрри Спивак уже здесь, через три дня со вчерашнего либо с сегодняшнего Кли выпишут без ребенка. Я приберусь, подготовлю дом. Я представила, как снимаю туфли и помещаю их на подставку на пороге. Забавно: всего несколько минут назад я думала, что этот бессвязный страх, этот лимб продлится вечно. Я попыталась улыбнуться – проверить, вправду ли это забавно, ха-ха. Ладонь метнулась к горлу – горло жестоко сдавило. Глобус истерикус. Я считала, что он исчез насовсем, но, конечно, нет. Ничто никогда не меняется по-настоящему.
Я склонилась по другую сторону ящика. Пальцы у ребенка шевелились, как подводные растения. Как я узнаю его, если пересекутся дальше в жизни наши пути? Эти водорослевые руки окажутся погребены внутри нормальных мужских рук. Он не будет мне известен даже по имени, потому что его у него нет.
Почти! – сказала я. Никак тут по-хорошему не быть, и я решилась на рыцарское безрассудство, пронзая копьем собственное сердце. Нам почти удалось. В другой раз!
Кубелко Бонди посмотрел на меня недоуменно, утратив дар речи.
Я развернулась и покинула реанимацию, не успела Кли на меня отвлечься. Дошла до лифта, спустилась в приемный покой. Выбралась из приемной на улицу. Солнце ослепляло. Люди шагали мимо, размышляя о сэндвичах и о том, что их подвели. Где я оставила машину? В стояночном гараже. Я обыскала все, этаж за этажом, ряд за рядом. «Скорая». Я приехала сюда на «скорой». Придется вызвать такси. Мобильный не с собой. Он в палате. Ладно. Вернись, забери. Войди и выйди вновь. Я поднялась на лифте обратно на седьмой этаж. Все смотрелось так же, у свиноликой медсестры было то же лицо. До чего хорош был этот мир – с его большими, настоящими заботами. Обнаружилась и пара, винившая друг дружку, – они держались за руки и нежно улыбались. Я – призрак, шпионящий за моей старой жизнью, где меня больше нет. Палата 209. Кли вернется из реанимации в любую секунду. Мой мобильный, хватаю и ухожу.
Она сидела на краю кровати, плакала. За краткое время, пока меня не было, стряслось что-то ужасное. Она уставилась на меня и произвела бесформенный сердитый звук.
– Я не могла тебя найти. Везде искала.
Ничего ужасного не стряслось.
– Я пыталась позвонить. – В доказательство похлопала по карману с телефоном. Телефон и впрямь был у меня в кармане – все это время. Я вернулась за чем-то другим.
Остаток ее плача выбрался наружу в комковатом вздохе – после первого поцелуя. Мы начали с последовательности неприцельных, словно слишком спешили и не заботились запечатлевать их как надо; затем наши рты сделались кончиками пальцев, вслепую двинулись по выпуклостям и впадинам каждой черты. Она замерла, чуть отклонила голову и посмотрела на меня. Рот у нее остался открыт, взгляд задумчиво медлен. Она изучала мое лицо, словно пыталась его разъять, найти в нем привлекательность – или же понять, вероятно, как ее сюда занесло, как такое могло случиться.
– Иди ко мне, – сказала она, приподнимая крахмальную белую простыню.
– Там места не хватит. – Я осторожно присела на край ее кровати.
– Иди и все.
Я сняла туфли, и она медленно, мучительно сдвинулась самую малость на одну сторону односпальной кровати. Суммарная ширина наших поп едва помещалась между поручнями.
Мы начали заново, на сей раз – медленно. И глубоко. Ее грудь, свободная под больничным халатом, прижималась к моей; Кли засовывала в меня язык сильными, зрелыми движениями, а я держала ее лицо, эту мягкую, медвяную кожу. Ничего подобного я с ней в своей голове и близко не делала. Филлип, слесарь и прочие мужчины все делали совершенно мимо. А не мимо – это целоваться. Внезапно она замерла и отшатнулась.
– Тебе больно?
– Если честно – да, – немного резко сказала она. Меня поразило, как стремительно она изменилась.
– Может, больше жидкостей надо? – Я глянула на ее мешок с раствором. – Позвать медсестру?
Она хрипло рассмеялась.
– Я бы чуток подумала кое о чем другом. – Она глубоко, осмысленно выдохнула. – Кажется, я для таких вот чувств не готова.
– Каких чувств? – спросила я.
– Половых.
– Ой.
В одиннадцать я принесла нам обед из подвальной столовой; она поела минестроне, а потом захотела поспать. Но лишь после того, как поцеловала меня в шею и пробежалась рукой по моим коротким волосам. Как во сне: самый маловероятный для этого человек не в силах тобою насытиться – кинозвезда или чей-то супруг. Как такое возможно? Но притяжение взаимно и бесспорно; оно – причина самому себе. И, словно изумление на Луне или изумление на поле боя, ошеломление свойственно этим местам. Воздух в № 209 зловонен, он растил экзотический цветок, а не естественное нечто, о котором толковала Кэрри Спивак. Или, может, она бы сказала, что все становится крайне чувственным как раз перед отдачей ребенка, на третий день; может, это часть дуги. Завтра третий день.
Я подождала, пока она проснется, сама она в реанимацию не пошла, и туда отправилась я. Какая-то пара снимала с себя больничные рубашки, когда я надевала свою. Они обсуждали подержанные автомобили.
– Ты бы ни за что не купила машину, не попинав сначала покрышки, – говорил он, комкая свою рубашку и по ошибке швыряя ее в бак для переработки отходов.
– Ты бы купил, если б уверовал, что Господь знает, что́ тебе по силам.