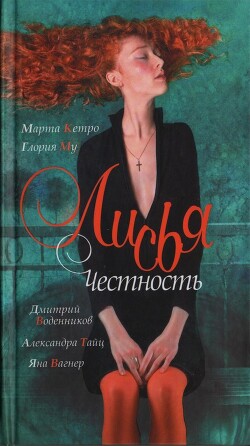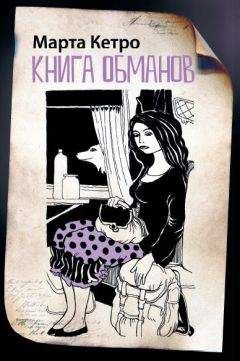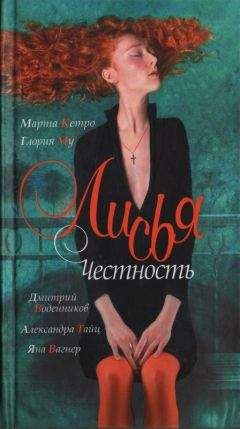И я сказала:
— Серёня, так нельзя. Вот у меня спина болит, а ты чего? Расслабь поясницу, отпусти плечи, а то кажется, что у тебя стальная спица в заднице.
— Какая ещё спица? — возмутился Серёня.
— Стальная. По самую голову. А должна быть пружина, понимаешь? Задница — важное коммуникативное средство, ею надо подавать сигналы, а не таскать за собой как гроб с младенцем.
— А откуда белая женщина узнала страшную тайну чёрных про пружину в жопе? — вопросил внезапно голос с небес, и я подумала: «Хандец. Неужели молнией убьёт? Надо умереть достойно, а не раком».
Почти без усилий разогнувшись, я увидела здоровенного веселого негрилу в красной майке с надписью They Killed Kenny, линялых джинсах, плотно обтягивающих крепкие ляжки танцовщика, и завизжала:
— Кен! Кенниии! И ты здесь, черномазый ублюдок!
— Белая шваль! — Кен обхватил меня за талию, но кружить не стал, только слегка приподнял. — Что, спинку потянула, darling? Ходишь, как кошка перекошенная. И грустненькая такая, что ты такая грустненькая, мой маленький печальный светлячок? Кто обидел? Покажи говнюка папе Кену, систа, и папа Кен сделает из говнюка двоих.
— Зачем же нам два говнюка, браза? Никто меня не обижал, это я, я обидела Рафика. А теперь не знаю, как его развеселить… — Я склонила голову повинную и боднула Кена макушкой под дых.
— Ай, улыбнись, sweetheart, это мы моментом поправим. Посмотри, каких я орлов, sorry, голубей привёз! Мы его сейчас не то что развеселим, мы его плакать от счастья заставим! Я же свой стрип-дэнс полным составом в гости притаранил!
— Так я, чай, тоже не пустая приехала, браза! С огоньком! — похвасталась я.
— Так мы им сейчас тут подзажжём не по-детски! — подмигнул Кен и повел меня знакомиться с коллективом.
По саду шлялись ещё человек шесть верзил разного цвета. С некоторыми из них я уже была знакома, мы пообнимались, поулыбались, как-то быстро все поладили и стали изобретать праздничное шоу. Серёня сдал нам два хозяйских чулана, из которых мы повытащили кучу садовых и ёлочных гирлянд, фонариков, плошек, проволочек и проводов. Тут-то и пошло настоящее веселье — мы оплетали деревья гирляндами, тянули провода, расставляли плошки, «разводили выходы».
Кен подсадил меня на дерево, как больную белку, и вот, сидя на ветке, подгрызая проводки и соединяя их заново (чёрненький с чёрненьким, красненький с красненьким, ага), я вдруг нашла себя абсолютно безмятежной. И даже счастливой. Да, сидя на дереве. С проводом в зубах, одним солнечным днём. В красных сапогах и чёрной юбке в пол, с розовым подъюбником. Так всё и было.
Я смотрела на Кена, который репетировал со своими парнями, зубоскалил и почти без усилий изображал здоровенного весёлого негрилу. — Кен, Кеша, Иннокентий, русский мальчик, коренной москвич, подарок той самой легендарной олимпиады, названный мамой в честь любимого актёра Смоктуновского.
Кен поймал мой взгляд и проорал: — Систа, ты похожа на обезьянку! И я бросила в него горсть золотистых листьев.
Я подумала о покое и безмятежной, безадресной нежности, когда уже всё есть или всё было, и уже не нужно никуда бежать и никого хватать, о своей любви, которая, может быть, последняя и навсегда. Что сердце моё спокойно сейчас и звучит глухо, как шаги по траве, оно не бьётся взбесившейся лошадью и не застывает мёртвой ящерицей. И этот ровный ритм даёт какую-то новую силу, я просто ещё не привыкла. Что вот этого мне и недоставало последнюю пару лет, вот этого совершенно дояблочного райского братства, детского сада этого.
От глупых мыслей меня отвлекло тихое урчание серебристой «тойоты», аккуратно ползущей по садовой дороге.
Гости собирались, и надо было поторопиться с монтажом вечерних чудес.
Потом, когда мы разводили последний танец с огнем, я проклинала каждый шаг, вспоминая недобрым словом Андерсена, Русалочку и острые-острые ножи, пока верзила в бейсболке не сказал:
— Фигли ты мучаешься? Всё равно же видно, что тебе больно двигаться, так утрируй эту пластику. Дай этим сукам жёсткого модерну и пусть сдохнут или кончат!
Когда стемнело и «эти суки» потянулись на веранду, сад мерцал. Деревья проявлялись и исчезали светящимся контуром, из-под земли били фонтаны разноцветных искр, с веток сыпался серебристый дождь, и призрачные тени танцевали танец танцующих деревьев.
Мы работали 12 минут (плюс шесть часов подготовки).
Уехали почти сразу же.
— Ну их к чёрту, — сказал Кен, — не будем портить этот fucking miracle.
Раф вышел нас проводить и всё повторял растерянно:
— Что же вы уезжаете так скоро?
Но я знала — надо уезжать, надо оставить ему в подарок это маленькое чудо, которое так внезапно народилось вместо глупого фейерверка, и было приятно знать, что всем причастным к чуду это ясно — парни молча улыбались, принимая похвалы гостей, и торопливо рассаживались по машинам.
А мне было явление повара. Филиппинец проскользнул к Серёниному «рено», погладил меня по плечу и сунул два бумажных пакетика с какой-то сушёной мерзостью.
— Сюп, — сказал он и дальше объяснил руками, что два часа на маленьком огне, а потом процедить. И повторил: — Сюп, ты понил? Ясно?
Я прижала пакетики к груди и покивала:
— Понил, спасибо. Ясно, ясно…
Хорошие собаки
Чеховский фестиваль всё приносит и приносит всякое, как морской прибой. И радости принёс, и французского цирка, и работы, и встреч с друзьями — хочу я этого или нет (о да, вот спросить забыли, надо ли мне было чего-нибудь, кроме французского цирка).
Ну, по поводу ещё работы я уже оторалась. Оторавшись же, села, подумала внимательно, и — о чудо! — выяснилось, что её (работы) ничуть не больше, чем обычно.
Столько же, сколько прошлым летом. Столько же, сколько зимой.
Беда в том, что зимой-то легче лёгкого быть трудолюбивым аскетом, а в июне, в июне вот западло.
И я хожу по дому и вою, как перекинувшийся вервольф — ааауууыыыыыыыыыы-ыы-не-хочу-раааа-бо-тать-не хо-чуууууууу-уааауууууууу!!!
— А чего хочешь? — невозмутимо спрашивает любимый мужчина.
Я прекращаю вой и, поразмыслив минутку, честно отвечаю:
— Шляться.
Я действительно хочу только одного — шляться. Шляться по Москве. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, ни Туниса, ни Мадрида, и на работу не хочу.
Только шляться по Москве, наматывая километры тротуаров, заползать в незнакомые переулки, читать дурацкие названия — Скаряяятинский, А-ще-улов, Первый Бабьегородский, Второй Бабьегородский (а кто-нибудь знает, сколько их всего, Бабьегородских-то?), Ножовый, Медвежий и Лихов — выныривать в запылённых сквериках, сидеть как посторонний, как турист, на ступенях Пашкова дома, пить тёплую воду из трижды проклятой гринписовцами пластиковой бутылки и наблюдать, как мальчишки из Кремля катаются на своих машинках с мигалками.
Я её совсем забыла — Москву. Забросила. Оставила. Не помню, как куда откуда выйти и где свернуть, чтобы.
Соскучилась я по Москве, вот что, и теперь сбегаю со спектаклей, отмазываюсь от необходимых встреч, вру в телефон всякое и провожу среди себя внезапные экскурсии.
Ну а кто бы ещё смог? Среди моих знакомых плохо с теми, кто, мило щебеча, может отмахать семь километров пешком и не подохнуть. А это как раз мой минимальный прогулочный формат.
Вот вчера топала от трёх вокзалов до девятьсот пятого и вспоминала разными нехорошими словами разных хороших людей, к слову, моих нынешних работодателей.
«Вы ебанулись, — думала я, — нет, вы не ебанулись — вы охуели. Не побоюсь этого слова — вы действительно охуели».
Брать меня на работу и тащить обратно в театр — это надо действительно охуеть.
Потому что это не мой прогулочный формат.
Где-нибудь на площади что поставить, чтобы там взрывалось, летало с двадцати метров, чтобы трансвеститы в перьях, цирковые в блёстках, механическая летающая свинья, исполняющая арию Доницетти, ходулист с фальшфейером в жопе и кордебалет в шахтерских касках с фонариками — это да. А театр… Ну, не люблю я театр, карнавал люблю, а в театре вашем мне не развернуться. Я давно уже не театральный художник, а уличный. Видели, постеры висят по всему городу — «Великие художники России на улицах Москвы»? Во, так это мы самые и есть. А тут вдруг — театр. Театр, господи боже ты мой!