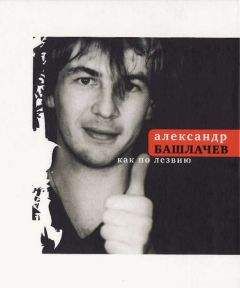Ознакомительная версия.
— Да уж я так и понял. А за чем же?
— Я тебе говорил: скажу — за психа меня считать будешь. Это надо своими глазами увидеть.
— Темнишь ты, Скипидарыч, ну да хрен с тобой. Не хочешь говорить, как хочешь. Но со смертью Никодима это хоть как-то связанно?
— Мне так кажется.
— Ну ладно, уговорил, схожу я ещё разок в церковь.
— Во, прально. А то назавтра отпевания начнутся. Они вряд ли появятся.
— Да кто «они»?
Скипидарыч не ответил. Дальше шли молча, лишь проходя мимо могилы, в которую накануне угодил Деснин, Скипидарыч обмолвился:
— Может, это знак тебе какой? Да, дела. Теперь еще четыре копать. Монстр, пожирающий человеков. Неспроста все это, ох неспроста. Четыре трупа и всеобщее беснование. Кто-то так выделывается, словно соревнуется…
Забегаловка оказалась довольно грязной и неухоженной. Тусклый свет. Пол, выложенный плиткой с каким-то дурацким рисунком. Плохо прокрашенные стены. Неубранные столики. Деснин для начала взял по двести грамм и какой-то салат.
— Во, обеда еще не было, а они уже пьют, — походя заметила буфетчица, немолодая уже, грузная баба.
— Молчи, женщина, — ответил на это Скипидарыч. Затем, дурашливо вывернувшись, прошипел ей прямо в лицо:
— Полюбите нас грязненькими, а чистенькими нас любой полюбит.
Буфетчица вся сконцентрировалась, пытаясь проникнуть в суть данной фразы.
Очевидно, сделать этого она так и не смогла, потому что, ответив типичным в таких случаях «Сам казёл!», гордо повернулась и ушла.
— Во, видал, что значит классика? — прокомментировал данный уход Скипидарыч.
По всей видимости, Скипидарыча здесь хорошо знали, так как завсегдатаи забегаловки одобрительным гулом приветствовали его выходку. Однако вскоре другой мужик бомжеватого вида и неопределенного возраста, весь в бороде, привлек всеобщее внимание. Он стоял за одиноким столиком и готовился употребить пиво. Вдруг к нему подскочил один из подвыпивших парней и попытался отобрать кружку.
— Руки прочь от народного достояния! — прогремел на всю забегаловку бомжеватый. Парень опешил от такого окрика и ретировался.
— Подонки! — продолжал возмущаться бомжеватый, ни к кому конкретно не обращаясь и потягивая пиво. — На девяносто процентов — одни дебилы кругом. Семьдесят лет большевики делали идиотами, а теперь дерьмократы добивают. Ведь у этих сволочей программа есть на уничтожение России. Я ж предупреждал Николашку-то, царя — не поверили. Эх, все спасение наше в Боге.
На этом бомжеватый допил пиво, икнул и был таков.
— Во! — тут же сунулся Скипидарыч, уже успевший опрокинуть свои двести грамм. — Не я один такой.
— И ты, что ли, Николашку предупреждал? — подколол его кто-то.
— Не, я помоложе буду, — тут же нашелся Скипидарыч. — Не об том я, а об, так сказать, общеполитической ситуации в стране.
— А, так вон у нас здесь уже есть один вумный, в очках. В местные депутаты лезет. Перевыборы ж будут. Оскандалились прежние в воскресенье с кражей бюллетеней-то, теперь все сызнова. Эй, кандидат! — окликнули уже разомлевшего интеллигента лет под сорок. — Мы вот его все пытаем, чтоб объяснил без всякой своей экономики, почему все так хреново, почему руки опускаются, и делать ничего не хочется? Где задор?
— У, это серьезно. И как его сюда занесло? — удивился Скипидарыч, бесцеремонно разглядывая кандидата.
— Так он, это, от оппозиции, то есть без бабок совсем, — пояснили мужички. — Говорит, что зашел снять стресс перед выборами…
— Но и тут нарвался на дебаты, — проговорил, наконец, сам кандидат.
— Ну так и где задор? А? — продолжал допрос Скипидарыч. Кандидат хлебнул пивца и уверенно начал. Казалось, что у него есть ответы на все вопросы:
— Все очень просто, — пассионарность в русском народе резко упала.
— Чего-чего? — мужики словно ничего и не ожидали, кроме как услышать очередное непонятное словечко.
— Ну, жизненная сила, что ли, азарт, вдохновение, в общем, стимула нет, — кандидат, как мог, пытался объяснить термин.
— А-а. И с чего ж это она вдруг упала?
Кандидат на секунду задумался.
— Упала она оттого, что веры нас всех лишили. Не в Бога, нет, веры вообще, в себя веры. Вот, — кандидат полез в карман и достал мятую бумажку. Я в своей программе из Достоевского привожу, послушайте. «Экономика с начала веков исполняла должность лишь второстепенную и служебную. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающей и господствующей, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти». Вот еще, — кандидат, чувствуя, что теряет инициативу, читал не отрываясь, стараясь не смотреть на мужичков, — «У каждого народа своя особая вера. Свое понятие о добре и зле. Если ее нет, нет и народа. Общечеловеческие ценности стирают грань между добром и злом и означают смерть народностей. Если великий народ не верует, что в нем одном истина, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тот час перестает быть великим народом, а становится этнографическим материалом. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве. Кто теряет веру в свою исключительность, тот уже не народ».
Кандидат выдохнул и робко посмотрел на присутствующих. Достоевский впечатления не произвел.
— Ну ты загнул, — наконец произнес кто-то. — Тут и на трезвую голову не разберешь. Да и этот твой Достоевский, он когда жил, а мы тебя про сейчас спрашиваем.
— Сейчас? — под действием алкоголя кандидат начинал заводиться. — А сейчас наши дерьмократы уверяют, что нет в нас, русских, ничего особенного, что мы как все, даже хуже. Не понимают они русскую душу. Не понимают, что, говоря так, лишая веры в исключительность, убивают народ, лишают его жизненной силы. Понятно ли чего? — неуверенно спросил кандидат, чувствуя, что бесплатная агитация накрывается медным тазом.
— Понятно-то понятно. Да только уж больно мудрено ты со своим Достоевским говоришь, — отозвался Скипидарыч. — Проще надо, когда с народом общаешься. И лучше на каком-нибудь жизненном примере.
— Да какой же тут может быть жизненный пример? Это ж ведь Достоевский, философия, — возмутился кандидат.
— Э, всю философию можно так объяснить, чтобы любой дурак понял. Вот у Дарьи петух был…
— Помилуйте, при чем здесь петух? — недоумевал кандидат.
— А ты не мешай, умная голова, слушай стариковскую сказку-то.
Скипидарыч сделал паузу, словно собираясь с мыслями.
— Вопрос, я мыслю, надо так выставить. Вот сидите вы здесь, — обвел Скипидарыч взглядом присутствующих, — водкой заливаетесь, отчего? И в глазах блеска не видно, и вообще, будто пришибленные…
— Ладно, не дави мозоль, — одернули из публики. — Обещал сказку, так давай, рожай, что ли.
Скипидарыч только этого и ждал.
— А ты сперва налей, — тут же обратился он к нетерпеливому слушателю, — а то в горле что-то пересохло.
Скипидарычу плеснули, он выпил, крякнул и начал так:
— Сказки это вам по ящику в новостях сказывают. А я вам о натуральных событиях толкую, да так, чтоб с начинкой. Учу вас, дурачков, чтоб в мозгах ваших пьяных хоть чего-то зацепилось.
— Ну ты, за дурака ответишь, — послышались угрозы.
— Не тронь. Он дед умный, только спился слегка. Ну давай уж, начинай.
— А вот ведь, что человек, что скотина — разницы никакой, — Скипидарыч вновь сделал паузу, закурил. — Отрядили нас как-то на сенокос в соседний колхоз. Там всё низины, и травы повыросло море, сами местные не справлялись. На постой бригаду нашу определили на сеновале у Дарьи, матери председателя. Здоровенная бабища такая, только вот ближе к старости мужика своего лишилась, но хозяйство все равно, как могла, содержала. Сенокос, он и есть сенокос: день весь вкалываешь, косой так намашешься, что на сеновал приползаешь — язык за спину, лишь бы перекусить по быстрому да спать. А с первой зорькой опять — коси коса, пока роса. И вот, как назло, был у хозяйки петух. Голосистый такой, заслушаешься. Поет от души, самозабвенно, не для кого-нибудь, и сам, чувствуется, своим пением наслаждается. Голос зычный и сила в нем страшная, бодрящая, словно командует: «Подъем!». Тут уж не до сна — мертвого разбудит. Куры сбегаются, квохчут, а он на них ноль внимания. Орет, заливается во всю глотку, с переливами: ко-ок-каа-рее-оууу! Для себя поет, не для них, сам наслаждается, сам себя распаляет. Только когда выорется полностью, тогда спрыгнет с забора и приступает к своим обязанностям. Да, музыкальный петух был. Но только вот, зараза, орать начинал ровно в три утра. Вся округа с ним поднималась. А у нас-то, у шабашников, понимаешь, самый сон, но он как заорет — и все, хана, сна как не бывало. А повкалывай-ка тут с недосыпа. В общем, достал нас этот петух своим пением — дальше некуда, хоть убивай. Так и хотели поначалу порешить — да рука не поднялась. Прикиньте: матерый, породистый петушище, злой. Плотно сбитый, яркого рыже-красного окраса с пышным черным хвостом и багровым гребнем, голенастый, с огромными красными шпорами. Окрестные петухи его боялись и уважали. Жалко было такую красу губить, грех на душу брать.
Ознакомительная версия.