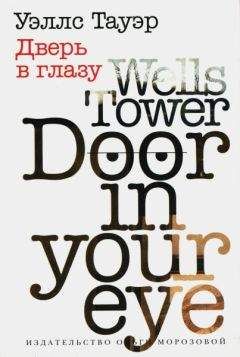Ознакомительная версия.
На часах уже десять, когда Джефф замечает оранжевый свитер Кэти среди толпы кривляющихся посетителей у клетки с бенгальским тигром; она смотрит, как огромная кошка кругами ходит по клетке, ступая большими лапами. Джефф окликает ее. Но она не слышит, она смеется вместе с девочкой, стоящей рядом. Джефф быстро подходит, кладет руку ей на плечо и резко разворачивает к себе так, что ее голова откидывается назад. Люди обернулись. Ее рот широко и мило раскрыт, но свет в нем погас.
Перевод В. Голышева
Только начала жизнь входить в домашнюю колею, как кто-то напустил драконов и гниль на жито из-за Северного моря. Все мы знали кто. Последние лет десять норвежский монах-перебежчик Наддод был большим колдуном по части драконов и гнили и наводил пагубу на любого, кто выложит сколько-нибудь серебра. По слухам, Наддод орудовал в монастыре на острове Линдисфарне, по которому мы прошлись прошлой осенью после месяца жатвы по ходу операции грабежа и устрашения в Нортумбрии. А теперь злые ветры выли с запада, обжигали землю, вырывали траву из почвы. Лосось покрылся язвами, кузнечики жадными трескучими стаями вцепились в пшеницу.
Я старался об этом не думать. Три долгих месяца мы грабили берега Нортумбрии, и вот я вернулся к моей женщине Пиле и думал, что в эти бесконечные летние дни наш дом очень похож на рай. Дом мы построили вместе, Пила и я. Это была очень приятная хижина из прутьев и глины, на красивом участке равнины, где в землю врезался широкий голубой фьорд. Летними вечерами мы с моей молодой женой, напившись картофельного вина, сидели перед домом и смотрели, как солнце прошивает на горизонте свою оранжевую юбку. В такие часы бывает хорошее, смирное чувство, что боги прямо сейчас создали это место, а потом спохватились, и придумали тебя, и посадили здесь, чтобы радовался.
Я и радовался, и получал удовольствие, и на полатях полеживал с Пилой, хотя знал, к чему это, когда слушал вой ветра за стенами. К тому, что какие-то личности за три недели морем от нас портят нам лето и, похоже, их надо за это отодрать.
Конечно, Дьярф Светловолосый выпустил жало еще до того, как его жена заметила драконские ветры, дувшие с берега на материк. Он был начальником на нашем корабле и одержим войной. Страсть его к битвам была и пугающей, и заразительной. Однажды он сколотил шайку франкских рабов и повел их на юг, убивать и увечить соотечественников. Четыре дня они всласть пограбили, а потом до рабов дошло, что они творят, и настроение у них враз переменилось. Дьярф с боями шел вверх по долине Рейна, без труда пробиваясь сквозь квелые ополчения детей и крестьян, но тут рабы его нагнали. Те, кто был с ним, рассказывают, что он осатанел, сделался прямо берсерком и парой боевых топоров лущил их ряды, как кукурузный початок, а когда топоры сломались, схватил чью-то отрубленную ногу и принялся глушить ею словно дубиной. Робкие провинциалы ужаснулись, отступили и открыли ему широкий проход к кораблю.
Дьярф был из Хедебю-Шлезвига на фьорде Сли, паршивого каменистого места, где жители получают жгучее удовольствие от мрачных сторон жизни. У них привычка: если им не понравится с виду младенец, вылезший из живота, — они бросают его в море и ждут следующего. Дьярф сам родился с коликами, и только по милости приливов и благодаря собственной цепкости его принесло к дальнему берегу, когда отец хотел сплавить его с земли.
С тех пор он сводил счеты. Я был с ним в поисково-истребительной операции против Людовика Благочестивого и собственными глазами видел, как он шел по плечам солдат, кося черепа по дороге. В том же походе у нас кончилась еда, и Дьярф придумал бросить наших покойников на костер и поужинать вчерашней бараниной, когда у них лопнули животы. Он один в них копался, если не считать сумасшедшего араба, рассеивателя чар. Он залезал к ним в животы и выгребал пережеванную пищу куском сосновой коры. «Бакланы, — говорил он нам, и отсветы костра бегали по его лицу. — Еда есть еда. Если бы этим ребятам не обрезали нити, они сказали бы вам то же самое».
И вот Дьярф, у которого жена была сварливой бабой с рыбьим ротиком и не особенно большой приманкой, чтобы сидеть дома, агитировал снова вскочить на корабль и навести порядок в Нортумбрии. Мой друг Гнут, живший за каменной мореной на краю нашего пшеничного поля, спустился однажды с холма и признался, что тоже об этом подумывает. Он, как и я, был не особенно падок до войны. Он был помешан на кораблях. Он от хижины до сральника ходил бы на веслах, если бы кто изобрел корабль, чтобы мог плавать по дерну. Жена его давно преставилась, умерла от дурного молока, и теперь, когда ее не стало, та часть Гнута, которой было покойно на месте, которое под ним не двигается, тоже захирела и умерла.
Пила увидела, как он спускается к нам, и нахмурилась. «И гадать не надо, чего он хочет», — сказала она и ушла обратно в дом. Гнут не торопясь спустился по вересковому склону и остановился у пары стульев из пней, которые мы поставили наверху, чтобы любоваться приятным видом. Фьорд блестел, как разлитое серебро, иногда между волн высовывалась голова тюленя.
Шерстяная одежда Гнута заскорузла от грязи, немытые длинные волосы так отяжелели от жира, что даже крепкому ветру трудно было их пошевелить. На усах — хорошая корка соплей, зрелище не самое красивое, однако жил он один, любоваться на это было некому. Он вырвал стебель вереска и жевал его сладкий корень.
— Дьярф еще до тебя не добрался? — спросил он.
— Еще нет, но я не беспокоюсь, он не забудет.
Он вынул стебель из зубов, на секунду засунул в ухо и бросил.
— Ты поедешь?
— Нет, не поеду, пока не услышу деталей.
— А я точно поеду. Вчера ночью прилетела гидра и разогнала овец Рольфа Хьердала. Мы не можем терпеть это блядство. Затронута наша гордость, вот что затронуто.
— Слушай, Гнут, когда это ты сделался таким ретивым мудозвоном? Не помню, чтобы ты был таким гордым и чувствительным до того, как Аструд отправилась в хорошее место. Да и с Линдисфарна, скорее всего, нечего взять. Если не помнишь, в прошлый набег мы ограбили их догола, и вряд ли за это время они так разжились, что стоит туда плыть.
Лучше бы Гнут прямо признался, что жизнь у него одинокая и несчастная, а не корчил из себя заядлого вояку. На него поглядеть — и сразу понятно, что почти все дни он думает о том, чтобы войти в воду и не оглянуться. Вовсе не воевать ему хотелось. Хотелось на корабль, и с компанией. Вообще-то я не так был против дела, но хотел подольше помиловаться с Пилой. Она, наверное, даже сама не знала, как она мне нравится, и я надеялся поосновательнее полежать с ней до месяца сенокоса и, может, сделать нам маленькую обезьянку.
Но шли дни, и погода все больше портилась. Пила следила за небом, и грусть в ней набухала, как всегда, когда мне предстояло уплыть. Иные дни она меня ругала, а иные — обнимала меня и плакала.
И как-то поздно ночью, ближе к рассвету, выпал град. Он налетел вдруг, со скрежетом, какой бывает, когда киль заскребет по камням. Мы сидели, укрывшись овчинами, и я шепотом говорил ей успокоительные слова, чтобы заглушить этот шум.
Солнце еще не поднялось, когда пришел Дьярф и постучался. Я встал, прошел по полу, мокрому от холодной росы. Дьярф стоял перед дверью в кольчуге, со щитом и дышал так, будто бежал всю дорогу. Он бросил к моим ногам горсть града.
— День настал, — сказал он с шальной ухмылкой. — Надо отправляться.
Конечно, я мог сказать ему: «Спасибо, обойдусь», — но если ты отказался от одного дела, будь доволен, если позовут когда в торговую охрану на слабое жалованье. Мне надо было думать и о нас с Пилой, и о малышах, которых можем произвести. Но ей все равно не хотелось об этом слышать. Когда я опять залез в постель, она укрылась с головой, чтобы я подумал, что она сердится, а не плачет.
Когда мы отчалили, по небу неслись низкие тучи. Нас было тридцать на борту. Гнут греб со мною на носу, а сзади сидело много других, с которыми мне уже случалось плавать. Кое-кто из их родных пришел провожать. Эрл Стендер испортил всю музыку — он махал сыну, а тот стоял на берегу и махал в ответ. Он был маленький, лет четырех-пяти, если не меньше, стоял без штанов и держал на кожаном поводке молочного поросенка. Кое-кто на корабле был немногим старше — буйные малолетки, такие не сведущие в жизни, что руку тебе пожать или ножом пырнуть — им все одно.
Гнут был сам не свой от радости. Он смеялся, пел, сильно работал веслом — я только руки держал на рукояти для вида. Я уже скучал по Пиле. Смотрел на берег — искал ее рыжие волосы. Она не пришла провожать на берег — от злости и печали, что я ухожу, не вылезла из постели. Но я все равно ее искал; земля с каждым гребком удалялась. Если Гнут и понимал мое огорчение, то не сказал. Он толкал меня локтем, шутил и без умолку, весело, надоедливо болтал о чем-то, словно это мы вдвоем устроили себе отдельную прогулку.
Ознакомительная версия.