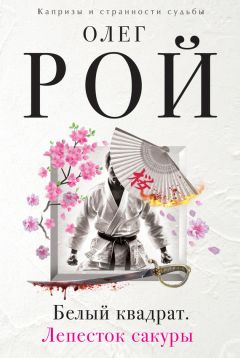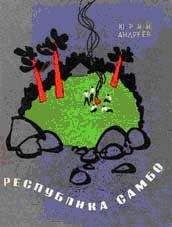Григорий женился рано, по достижении совершеннолетия. С будущей супругой он познакомился на музыкальных курсах: купец третьей гильдии, он обладал прекрасным слухом и, по примеру выдающегося Бородина, сочетал увлечение химией с музыкой. Его избранницей стала дочь регента церковного хора одной из церквей на Сретенке. Александра Николаевна обладала классическим колоратурным сопрано, но, как и многие девицы из не слишком зажиточных семей, отличалась слабым здоровьем, ибо ее семья была богата только детьми. А где бедность, там открыты двери болезням.
Последнее обстоятельство, отсутствие сколько-нибудь значимого приданого, впрочем, Григория Федоровича нимало не беспокоило, а вот слабое здоровье супруги едва не сделало его вдовцом. Беременная Александра Николаевна заболела болезнью Боткина и чуть было не умерла родами, но, слава Господу, пронесло. За жизнь младенца-первенца тоже были опасения, до полугода доктора не давали гарантий, что девочка не умрет, однако и тут обошлось. Родившуюся второго августа тысяча восемьсот девяносто второго года крошечную наследницу спешно окрестили на восьмой день и нарекли в честь святой, чью память праздновали накануне, Клавдией.
* * *
В тысяча девятьсот восьмом году день апостола Андрея выпал на воскресенье, и на катке на Сретенке было многолюдно. Виктор Спиридонов снимал неподалеку небольшую и уютную квартирку в доме бывшего вятского мещанина, ныне купца второй гильдии, разбогатевшего на продаже земельных участков. Квартирный хозяин Спиридонова был накоротке с его батюшкой, потому пустил на квартиру за сущие копейки и готов был и вовсе не брать с него никакой платы, но на это не согласился сам Виктор Афанасьевич.
Он исправно оплачивал топливо и газ для рожка, а время от времени едва ли не насильно всучал квартирному хозяину сумму, не составлявшую и половины московской коечной платы, имея при этом отдельную квартиру из комнаты с удобствами в бельэтаже, но на большее его нетипичный арендодатель не согласился бы и под угрозой расстрела. В конце концов Спиридонов нашел выход, через третье лицо сняв у своего квартирного хозяина комнатушку в антресоли, где поселил своего денщика, так что теперь он просто арендовал две квартиры по цене одной.[43]
Что ни говори, природа человеческая не меняется, и все люди в разные эпохи были разными – одни стремились выжать из ближнего максимум соков в виде ассигнаций, другие готовы были расстаться с последней рубахой, отдав ее нищему. Но и жадный нищий, и щедрой души богач – не такое редкое явление, тем более на Руси. Квартирный хозяин Спиридонова считал недостойным брать деньги с земляка, пролившего кровь за Отечество. Вот только на положение Спиридонов не жаловался, его материальное довольствие вполне соответствовало своему наименованию, поскольку Виктор Афанасьевич был им доволен.
Жизнь Спиридонова протекала спокойно. Он организовал небольшой кружок дзюудзюцу по месту службы, исполнив таким образом пророчество Фудзиюки. Он и сам не понял, как это произошло: несколько раз продемонстрировав на стрельбище товарищам по службе свое искусство, он уже не смог от них отвертеться – все хотели научиться тому же, что умел он, и дело пошло. Все случилось так быстро и органично, что он не удивился, будто событие совершилось без его воли. Но он тут же остро почувствовал, что ему необходимо поделиться своим искусством с другими, открыть для других дверь в свой мир.
Дзюудзюцу воздействует не только на тело, но и на разум, оттачивает не только рефлексы, но и понимание.
Всякий раз, когда он оказывался в этом мире, его охватывал восторг, восхищение тем богатством, каким он владел. Но самым восхитительным было то, что он мог менять этот мир, делая его еще более совершенным. Это началось еще в Маньчжурии – как-то раз Спиридонов заметил, что некоторые приемы Фудзиюки даются ему с трудом. Попытавшись разобраться, почему так происходит, он пришел к выводу, что эти приемы рассчитаны в большей мере на физическую конституцию японца. Тогда он задумался, можно ли их изменить «под себя», и вскоре преуспел в этом.
Он не преминул продемонстрировать свою находку учителю, рискуя наткнуться на строгий выговор, ведь Фудзиюки неоднократно ему говорил, что приемы дзюудзюцу основаны на многолетней практике, а потому в них важен канон. К его удивлению, учитель похвалил его за находку. Заодно Виктор узнал, какая кошка пробежала меж Дзигоро Кано и его другом: мэтр дзюудзюцу считал, что у Фудзиюки слишком большая фантазия и он безответственно относится к канонам дзюудзюцу. Фудзиюки отрицал это, но не фанатично.
– Да, дзюудзюцу не может остаться навсегда неизменным, – рассуждал он. – Боевое искусство отражает душу народа, его создавшего, черты национального характера. А народы меняются, и новое поколение не похоже на предыдущее. Конечно, «костяк» любой системы остается неизменным, как неизменна душа народа, его характер, но остальной организм должен соответствовать эпохе. Вы это понимаете, а Кано-сама нет. Но канон, канон…
Откровенно говоря, все, что Виктор тогда понимал, – это то, что приемы дзюудзюцу не совсем подходят ему, но их можно преобразовать «под себя», приспособить. Спорить с учителем он не стал, а уже в России понял, что Фудзиюки был прав. Это означало, что Система, несмотря на канон, нуждается во вдумчивой доработке, но Спиридонова это не пугало, даже наоборот – от каждой находки захватывало дух.
Так что на тот период Виктора Афанасьевича можно было считать счастливым человеком, и единственное, что заботило молодого офицера, – это ухудшившееся здоровье матушки. Все-таки переживания времен войны сильно ее подкосили, и вот тут-то и замаячил для Спиридоновых-мужчин образ солнечной и теплой Италии. Это стоило бы немалых денег, и после небольшого семейного совета мужчины приняли решение расстаться с частью семейного дела, чтобы приобрести в Италии имение. Афанасий Дмитриевич с грустью распрощался с вяткинским заводиком и значительно сократил свои дела в Москве. На все потребовалось время, а пока он возил жену на минеральные воды в Кисловодск, который тоже был неплохим местом.
* * *
В то воскресенье Спиридонов-младший отправился на каток пораньше, подозревая, что по обеду там будет многолюдно – был праздник. Никаких амурно-куртуазных планов на тот день у него не было, хотелось просто покататься на коньках. Во вторую половину дня собирался его «кружок» дзюудзюцу. Кружок был пока небольшим, всего в дюжину младших офицеров и унтеров. Вот и решил Виктор Афанасьевич покататься перед этим собранием, пока есть время.
Час был еще ранний, но народу на катке набралось уже довольно прилично, в основном, правда, чинно-благопристойного: бонны с детьми, семьи, пожилые люди поодиночке и парами – в общем, все, кто был неравнодушен к здоровому досугу на льду, но не особенно приветствовал шумные компании «разнузданной» молодежи.
Виктор не обращал внимания на чехарду, происходившую на катке, – как известно, где дети, там шалости, и на льду царила веселая суета и неразбериха. Среди всей этой суеты, словно шхуна Нансена среди ледяных торосов, чинно плыл Виктор Спиридонов. Он хорошенько покатался, всласть отдохнул и думал уж собираться домой, как его внимание привлекла кутерьма неподалеку. Центром ее была русая молодая особа, по виду типичная институтка. С растерянным видом она стояла над кем-то распростертым на льду.
Тренированные рефлексы Спиридонова сработали быстрее его восприятия. Он еще не понял, что произошло, но бросился к странной паре. На льду без чувств лежала девочка-подросток – барышня не старше лет шестнадцати. На ее внешность в первый момент Виктор не обратил ровно никакого внимания, он просто понял, что юной барышне стало плохо, и, используя знания по акупунктуре, являвшиеся частью системы дзюудзюцу, поспешил привести ее в чувство. Не обращая внимания на растроганные danke компаньонки потерявшей сознание, он посчитал пострадавшей пульс и установил, что он слабый, как говорят врачи, «нитевидный». Только теперь он разглядел подопечную, испытывая при этом странные, пока непонятные ему чувства.
Барышня была юной, пожалуй, моложе шестнадцати. Хрупкостью фигуры она напоминала немецкую фарфоровую балерину или фигурку из papier mâché, и это впечатление только дополняла молочно-бледная кожа цвета мелованной бумаги. Черты лица имели болезненную заостренность, но были правильными, на манер греческой камеи. Как и у всякого болезненного существа, глаза барышни казались больше и отличались особым блеском; они были серовато-стальные, с едва заметным зеленым оттенком, как у зимнего Азовского моря. Волосы каштановые, с рыжинкой, были собраны в целомудренный пучок, рыжинка проступала и в бровях, а поскольку день был солнечным, она красиво золотилась, словно по волосам пробегали искорки.
А главное, при всей несхожести с Акэбоно, она была на нее удивительно похожа – хрупкостью, белизной кожи, хотя белизна эта была у нее естественной, а не достигнутой с помощью белил из рисовой пудры…