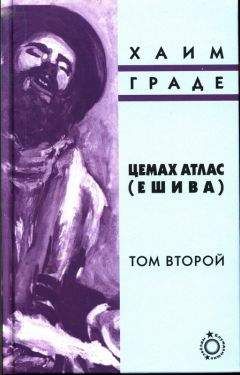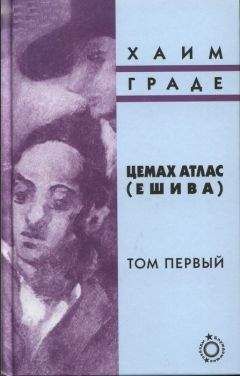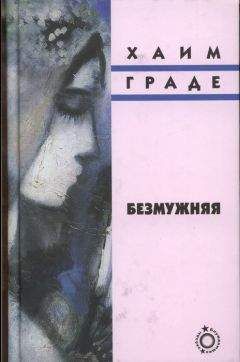Каменщик прошелся по Валкеникам, распространяя слух, что спас библиотеку, и рассказывал, как было дело. Когда зять старого раввина в субботу вечером ввалился к нему распаленный и заговорил от своего имени и от имени директора ешивы с глазами как у ангела смерти, что, мол, книги эти надо сжечь — он, Исроэл-Лейзер, увидел, что имеет дело с парой сумасшедших. Если отказать, они наймут иноверца или сами устроят поджог. Вот он и сделал вид, что согласился с ними, и взял книги из библиотеки, думая, что вернет украденное, когда суматоха уляжется. От радости, что отыскались книги, ребята из библиотеки по-свойски хлопали укрывателя краденого по спине и поднимали его на плечи, как раввина в праздник Симхас-тойре.
— Музыку! Музыку! Мы понесем книги назад в библиотеку с музыкой!
Только библиотекарь Меерка Подвал из Паношишока не радовался. Ему приходило в голову все, что угодно, кроме того, что уголовник Исроэл-Лейзер причастен к этому делу. Вахту от лавки реб Гирши Гордона убрали. Ему можно было теперь входить и в синагогу. Но на него больше не оглядывались, он потерял лицо.
Его старший свояк Эльцик Блох поторопился на смолокурню рассказать Махазе-Аврому, что стабильное положение перед началом нового семестра ешиве обеспечено. Но еще больше, чем своему свояку, реб Гирше Гордону, Эльцик Блох удивлялся директору ешивы: реб Цемах Атлас стал компаньоном уголовника, чтобы вступиться за честь Торы?
С тех пор как его посетил директор ешивы, Махазе-Авром лежал больной. Он даже молился в постели. Когда Эльцик Блох говорил, Махазе-Авром сидел на лежанке с талесом на плечах, а взгляд его глаз за очками становился все пронзительнее. После того как Эльцик Блох ушел, глаза реб Аврома-Шаи еще долго сверкали гневом, и он говорил крикливым голосом Хайклу, который молча страдал за директора ешивы:
— От таких обывателей, как реб Гирша Гордон, горькими слезами плачут местечковые раввины. Реб Гирша Гордон не из тех, кто много раздумывает над тем, происходит их фанатизм от гнева или от зависти. И с таким евреем заключил союз мусарник реб Цемах Атлас, отрицающий даже самоотверженность, если при этом есть какие-то посторонние соображения! Ладно, реб Гирша Гордон — еврей ученый и родовитый. Однако как директор ешивы мог стать союзником еврея, зарабатывающего себе на жизнь воровством? Реб Цемах думает, что он должен каждому сказать всю правду, даже если из-за этого придется со всеми поссориться. Но человек не может оставаться совсем без общества. И каждый, кто негодует на вполне приличных людей, потому что не может им простить маленьких прегрешений, в конце концов заведет компанию с людьми, совершающими большие преступления. И реб Цемах действительно стал компаньоном главаря людей, которые дерутся кулаками, а то и ножами.
Хайклу показалось, что ребе, сидевший на лежанке с талесом на плечах и в высокой ермолке на голове, с кудрявой бородой и заострившимся носом, выглядит как большая птица, сидящая на дереве. Хотя его птичий облик был веселее и миролюбивее внешности директора ешивы реб Цемаха, он фактически намного жестче и строже него. Хайкл не мог забыть последних слов реб Цемаха, которые он сказал ему, — о том, что Махазе-Авром еще более велик, чем люди о нем думают, но для него он не ребе. Хайкл рассказал об этом отцу, когда реб Шлойме-Мота уже поставил одну ногу на телегу, отвозившую пассажиров к валкеникскому вокзалу. Старый меламед повернулся к сыну:
— В этом сумасшедший мусарник прав. Видно, он знает тебя лучше, чем твой нынешний ребе.
В то же мгновение квартирная хозяйка Фрейда Воробей высунула голову в окно и пожелала квартиранту счастливого пути. Выйти на улицу, чтобы попрощаться с реб Шлойме-Мотой, Фрейда постеснялась: последняя пара туфель, которую она носила, порвалась как раз с приходом осени.
После отъезда отца у Хайкла больше не было причин ходить в местечко. Блуждать по лесу и трубить в шофар ему тоже надоело. Поэтому он сидел, скучая, на смолокурне и выглядывал из окна дачи, как будто это было окно тюрьмы. Низкие тучи, теснясь, наползали друг на друга. Время от времени брызгал дождь, но сразу же переставал, до настоящего ненастья не доходило. Сестра ребе в такие по-осеннему тоскливые и сырые дни тоже не хотела сидеть на даче. Однако ей пришлось ждать, пока ее приболевший брат немного придет в себя, чтобы можно было ехать. В субботу утром, за неделю до Новолетия, Махазе-Авром пошел помолиться в миньяне к управляющему картонной фабрикой. Вечером после гавдолы он сказал дома, что идет в местечковую синагогу на первое чтение «Слихес»[97]. Надел тяжелое пальто, глубокие калоши и взял в руку палку. Хайкл прихватил зонтик. Они вышли со смолокурни в половине одиннадцатого с таким расчетом, что даже если прогулка в местечко займет час, они все-таки успеют прийти в синагогу за полчаса до того, как начнут читать «Слихес».
Было ветрено и темно, но дождь не начинался. Чтобы не заблудиться в потемках, ребе и его ученик шли по лесу не по протоптанной узкой тропинке, а по широкому песчаному шляху, тянувшемуся вдоль высокой стены деревьев. Они уже прошли часть пути, когда вдруг загремел гром. Молния словно освежевала кусок неба и осветила облака, сталкивавшиеся между собой головами, как огромные разъяренные животные. Раскаты грома раздавались все чаще, будто скатываясь вниз по трескающимся каменным ступеням. Молнии беспрерывно пропарывали тучи, словно весь лес со всеми его стволами, корнями и ветвями огненно отражался в небе. Густой колючий дождь яростно обрушился на землю. Хайкл раскрыл над головой ребе зонтик, но дождевой поток в одно мгновение промочил натянутую материю.
— Евреи из миньяна говорили сегодня утром во время молитвы, что пойдут на «Слихес» в местечко. Мы тоже обязательно должны туда пойти, чтобы не сказали, что я пренебрегаю общественной молитвой, — пробормотал реб Авром-Шая и перешел на другую сторону дороги, под защиту леса. Однако даже сквозь густые хвойные ветви вода стекала потоком на голову. К тому же реб Авром-Шая боялся, как бы молния не ударила в какой-нибудь ствол, рядом с которым он проходил. Поэтому он отошел от деревьев и снова вернулся на шлях. Хайкл, вытянув обе руки, держал в них раскрытый зонтик, который ветер пытался у него вырвать. Проволочки изогнулись, железные прутья продырявили шелк, дождь хлестал прямо по лицу. Вдруг молния, как летящая зеленая змея, прыгнула над их головами, и Хайкл от испуга выпустил из рук зонтик. Ветер в то же мгновение подхватил его и понес, как большую черную летучую мышь.
— Из зонтика получилась тряпка, не стоит его искать, давайте вернемся, — просопел промокший и заляпанный грязью ученик.
— До местечка идти уже ближе, чем возвращаться на смолокурню, а дождь ослабевает, он сейчас перестанет, — ответил Махазе-Авром печально и задумчиво, как будто вокруг было солнечно и тихо, а он искал заросшую могилу на кладбище. С неба снова полыхнуло холодным светом, и ученик увидел ребе, стоявшего под дождем с закрытыми глазами, с покорностью опираясь на трость. Хайклу казалось, что и директор ешивы все еще стоит в лесу там, где он стоял, выйдя со смолокурни, и что это он вымолил у Бога бурю, когда Махазе-Авром пойдет на первое чтение «Слихес». А Махазе-Авром знает об этом и с любовью принимает бурю.
Дождь понемногу стих. Молнии без раскатов грома прорезали небо, казалось, что какая-то жуткая немая тварь строит странные гримасы на своем необъятном, раскрашенном огнями лице, щурит глаза и кривит губы, но закричать неспособна. Ребе и его ученик медленно двигались вперед. Их пропитавшаяся водой одежда стала тяжелой, как свинец. Они едва успели перейти по мосту через реку, как снова пошел дождь, но уже без грома. Дождь лил сильнее, с упорством переполненного горечью сердца, которое никак не дает себя утешить и постоянно срывается на плач, то громкий, то тихий. Однако в самом местечке можно было спрятаться: по обе стороны шляха тянулись дома с окнами, закрытыми ставнями. Жители местечка ушли на первое чтение «Слихес» и оставили дома до своего возвращения горящие лампы. Чтобы переждать новый потоп, Хайкл направился к дому, и ребе пошел за ним.
В темноте оба они не разглядели, что поднялись на крыльцо дома валкеникского резника. С дырявых крыш прямо на их головы тянулись длинные шнуры водяных капель. Хайкл взял ребе за руку и втащил его в сени. Они ступали по гнилой, рассыпающейся соломе и вдыхали затхлое тепло. Пахло подгоревшим молоком, застиранными детскими пеленками. Дверь в освещенную комнату была немного приоткрыта, а в сенях отчетливо слышался разговор между двумя женщинами в большой столовой прямо у входа. Мужчины ушли на «Слихес», дети спали, и две сестры, Роня и Хана-Лея, разговаривали между собой свободно:
— Да, я полюбила директора ешивы с тех пор, как он переехал к нам. Я еще не видела такого деликатного человека, такого героического мужчины, — сказала Роня намеренно громко. — Он всегда ходил гордый и печальный. Голова его была низко опущена, но плечи — прямые, и спина не ссутуленная. А когда он поднимал на меня глаза, я ощущала жар во всем теле. В прошлом году зимними ночами, когда он засиживался в синагоге, я разогревала ему ужин и стояла за его спиной в дверях кухни, чтобы посмотреть, как он ест. Но когда он заметил, что я смотрю на него, он перестал приходить поздно ночью, и я плакала оттого, что он не позволяет мне обслуживать его.