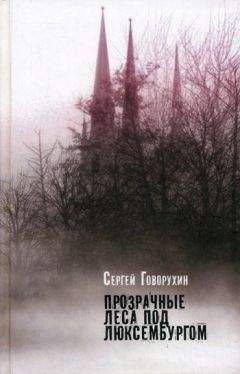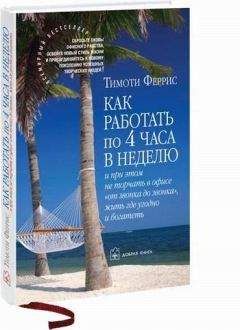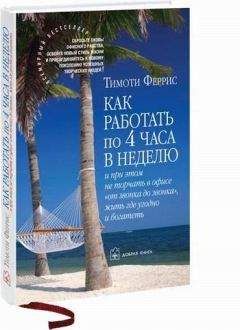Поражала хронологическая последовательность и симметричность, с какой были расставлены мебель в квартире, книги и безделушки на полках, – ничто не говорило о присутствии в доме художника. И нигде не было письменного стола. Совсем не было.
Сидели в гостиной под несозвучным общему интерьеру, будто вырванным из другой жизни старинным абажуром.
– Мы, ребята, существуем в разных социальных измерениях, – говорил Леха, поддевая ломтик севрюги.
– Вы ешьте, не обращайте внимания, – не смутился Семенов.
– Митя работает на перспективном направлении, – вымученно пояснила Женька, – в последнее время мы можем себе позволить…
– Понимаю, – Леха переключился на икру. – Что-нибудь связанное с распределением ресурсов…
– В этом роде, – согласился Семенов.
Удивительные были у него глаза – пресно-голубые, как вода. Такие глаза не отражают окружающий мир и самопроизвольно закрываются навстречу чужому горю.
– А гитара в доме есть? – спросила Тома.
Семенов поднялся.
– Секундочку.
Он ушел в соседнюю комнату и вернулся с гитарой в красивом кожаном чехле. Передав Томе гитару, подбросил на ладони револьвер и протянул Лехе.
– Раритет. От деда остался. Еще бельгийский, одинарного действия.
– Боевой? – спросил Леха, поглаживая револьвер.
– Да.
– А как же разрешение? – спросила Тома, чтобы поддержать мужской разговор.
– Разрешение, – усмехнулся Семенов. – Он наградной. Передается по наследству… Наши купили лицензию у братьев Наганов в 1895 году и сначала попросили не переделывать механизм, поэтому надо было каждый раз взводить курок.
– Зачем? – удивился Леха.
– Для экономии патронов и кучности стрельбы. И барабан разряжался вручную…
– Упаси господи, – сказал Леха. – У меня, по счастью, в танке «стечкин» был. Я в танковых войсках служил…
– Начинается! – не выдержала Женя. – Скучно, мальчики!
– Это сейчас «стечкин», – не обращая внимания, продолжал Семенов, – а в Отечественную танкистов вооружали именно наганом, чтобы его можно было в прорезь просунуть и гильзы не летели…
Тома расстегнула чехол, аккуратно достала гитару и, перебирая струны, еле уловимым движением подтягивала колки.
– А дед ваш с войны вернулся? – спросила она.
– Дед в войсках НКВД служил, отец – во внутренних, – спокойно ответил Семенов, взял у Лехи наган, крутанул барабан и нажал контрольный спуск. – Там где-то, на Севере…
Тома внимательно посмотрела на Семенова и неожиданно запела, резко перейдя из настройки в аккорд. Запела грустную песенку про Север, с которым, как ей казалось, порвала навсегда.
Проклятый Север не дает
Спокойно спать, привычно мыслить —
Проклятый Север вновь зовет
Пожаром облетевших листьев.
А за окном – все те же крыши.
На крышах – те же облака.
И у соседа слева – грыжа.
Внизу – цыпленок табака.
А облака, а облака
Над городами пролетают.
Куда – пока еще не знают.
Дожди их ватные бока
Слезой на землю проливают.
С утра кочуем в поездах,
Вам на Таганке пересадка.
А в море Лаптевых касатка
Кричит на разных языках.
Привычно тащат электрички
Обеды, пудреницы, спички.
Увозят в общем направленьи
Несхожие мировоззренья.
А облака, а облака
Опять куда-то улетают.
Куда – пока еще не знают.
Ветра их ватные бока
Безжалостно разъединяют.
А мы друг друга по плечу,
А мы друг другу о вчерашнем.
И к участковому врачу
Стоим, как в скорбном списке павших.
Но суета сует, час пик,
Тоска, удушье, недомолвки.
А где-то Мутный Материк
Прекрасен в утренней помолвке.
А облака, а облака
Бесповоротно улетают.
Куда – по-прежнему не знают.
Года их ветхие бока
Перебирают. Тают. Тают…
Тома допела, положила гитару на колени.
– Я не совсем понял, – сказал Семенов, – вот это, про скорбный список павших, кажется… По-моему, как-то, м-м… Хотя пока до наших врачей достоишься – еще десятком болезней заболеешь. Факт. – Он приглашающе засмеялся, но увидев, что его никто не поддержал, закончил скомканно: – У нас, в ведомственной поликлинике, в этом смысле, конечно…
Леха увидел, как заливается краской Женькино лицо.
– Это так, – поспешил сказать он, – для рифмы. Эти самодеятельные поэты понапишут черт-те чего, а мы – ломай голову. Ты нам, Томка, больше таких песен не пой.
Грустно улыбнулась Тома.
Леха срочно «залатывал» паузу.
– Анекдот вчера рассказали… Жена возвращается домой и застает своего немолодого, обрюзгшего, плешивого мужа в постели с очаровательной юной любовницей. Она останавливается посреди комнаты и спрашивает у любовницы: «Ну ладно, я – жена. Но тебе-то зачем это нужно?..»
Леха коротко хохотнул.
Дробно посмеялся Семенов.
Женька встала и вышла на кухню.
– Это глупо, Комарик.
– Ну, глупо.
– Тогда зачем?
– Он же ортодокс, Женька…
– Я знаю, – спокойно согласилась она.
Леха подошел к окну, ткнулся лбом в стекло. Обволакивала Садовое кольцо ночная сырость.
– Как ты могла, Женька?
– Зато я бесконечно могла жить по чужим углам, без прописки, без работы… Могла по утрам высчитывать полтинник – ехать мне сегодня на метро или на автобусе, которым хоть и дольше, но можно проехать «зайцем», сэкономить пятак и купить рогалик, а на два – сдобную булочку… – Но мы сами выбрали такой путь.
– Неправда. Мы выбрали трудный путь, но не такой. Ах, как мы были молоды, талантливы и глупы. Казалось, будет диплом – и откроются врата в рай. Вот диплом, вот врата, а вот привратники, которые по-прежнему пропускают только своих…
В комнате Тома сказала Семенову:
– Хотите, что-нибудь еще спою?
– Конечно.
Тома запела щемящую песенку на стихи поэта Заболоцкого про город Тарусу, про прачку, муж которой пошел за водкой, а она стирает и стирает, про петухов и гусей, которые так опротивели девочке Марусе, что глаза бы не глядели, про всю нашу скотскую жизнь.
– Хорошая песенка, – сказал Семенов, – без претензий.
– Леш, Леша… Господи, зачем я тебя встретила.
Он так и стоял, уткнувшись в окно, и она не могла видеть его слез, сползающих по стеклу.
– Он не знает, что у меня есть сын. Правда, Леш, не знает. А я не могу ему сказать. Каждый месяц к маме мотаюсь под предлогом тяжелой болезни… Я привыкла, понимаешь, привыкла есть, пить, спать… Иногда мне кажется, что вот-вот наступит разжижение мозга, но вернуться в ту жизнь…
– Господи, – сказал он, – как хочется умереть.
В дверях появилась Тома.
– Пойдем. Скоро утро, – сказала она.
– А где Митя? – спросила Женька.
– Спит.
– Сломался, – неестественно улыбнулась Женька.
В дверях, прислонившись к косяку, Женька сказала:
– Я так привыкла к этой жизни, что кажется, улыбнись мне сейчас счастье – я не буду знать, что с ним делать. Да и есть ли оно – счастье?..
Она вернулась в комнату. Убирая со стола, застыла с подносом в руках. В слабом свете торшера плыло липкое лицо мужа – он спал, спал, спал.
Ненависть, тоска, безумие рождались в ней и уже не могли умереть.
Они шли пустынным ночным городом. Чистопрудным бульваром, Покровским, Яузским. Молчали.
Вдалеке задребезжали буфера дежурного трамвая.
Лицо вагоновожатой было уставшим и безразличным ко всему на свете.
– Остановки объявлять? – взяв микрофон, спросила она. Леха кивнул в сторону одинокого пьяного, сжимавшего тугой портфель. Пьяный спал безмятежно, уткнувшись шапкой в стекло и приоткрыв рот.
Вагоновожатая махнула рукой, и трамвай тронулся. На светофоре трамвай резко затормозил, пьяный открыл глаза, строго спросил:
– Ваши билеты?
И снова завалился на шапку.
Трамвай въехал на Устьинский мост.
– Вагоновожатая, – попросил Леха, – останови нам на середине моста.
– Ничего проще, – ответила женщина и потянула тормоз.
И пока Леха с Томой шли по мосту и горланили песни, трамвай тихо следовал за ними.
Над лодкой белый парус распущу,
Пока не знаю, с кем,
А если я по дому загрущу —
Фиалку я под снегом отыщу…[3]
– Ну и слух у тебя! – поражалась Тома фальшивости его голоса.
– Ничего, Томка, у нас все будет иначе.
«А я иду, шагаю по Москве…»
– Ну и слух!
У подъезда сидела дворняга с большими бродяжьими глазами.
– Что, пес, – сказала Тома, – совсем ты один. Давай покормим его – нам ведь назаворачивали чего-то…
Собака потянулась к ее руке.
– Ешь. Это утка по-пражски, это бастурма, это буженина…
– Ты его прикормишь, – недовольно сказал Леха, – он пойдет за нами. А куда мы его?
– Не, собаки умеют отличать каприз великодушия от настоящего.
– А люди?
– А люди живы надеждой.
– Ты очень умная, Тома.
– Ага. Очень умная круглая дура.
Пронизывающий апрельский ветер раскачивал темные волны канала, и они с тихим шелестом бились о гранитные берега, гулко капала в расставленные на полу банки вода – текла крыша, и где-то в глубине улицы надсадно елозил метлой похмельный дворник. Город отсчитывал последние ночные минуты.