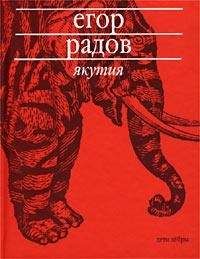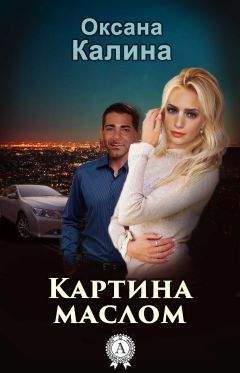- Нет уж, друг, - проникновенно ответил Головко. - Доллары у нас у всех появятся, когда мы расфигачим их всех, наладим прямой контакт с американцами и канадцами через полюс, и будем цвести, любить и прекрасно жить. Но у меня есть рубляшники.
- А у меня какашники! - насмешливо сказал таксист. - А ты что, хочешь завоевать Алдан?
- И Алдан тоже! - гордо воскликнул Абрам.
Таксист посмотрел на его мощную фигуру и одобрительно кивнул.
- Уж не знаю, не знаю... Но могу тебе посоветовать. Я могу отвезти вас в Нерюнгри, на автостанции договоришься. Попробуй. Они могут поехать в Алдан. Им все равно. Они - русские люди, они не боятся, и они любят рубли.
- Так поехали! - обрадовался Абрам.
- Шестьдесят, - строго сказал таксист.
- Ура! - крикнул Головко и побежал к Софрону. - Вперед, дорогой мой! Я договорился, мы едем в Нерюнгри, там русские люди, они любят рубли и самовар! Поехали!
- Где вино? - мрачно произнес Жукаускас.
- Я дам вам в машине.
- Почему Нерюнгри? - сокрушенно спросил Жукаускас. - Почему?
- Оттуда мы попробуем доехать до Алдана. Оттуда. Ну, поехали в Нерюнгри?!
- Да хоть в жопу, - печально промолвил Софрон и взял свою сумку.
Они резко выехали, выстрелив из-под колес дорожной вязкой грязью. Головко вытащил бутылку вина и дал ее Софрону; тот зубами открыл пробку и сделал первый сладостный глоток.
- Вот наша бедная Россия, - сказал таксист, показав рукой неопределенно куда. - Грязь, унылость, леса, поля...
- Мы же в Якутии! - перебил его Софрон, булькнув вином.
- В Якутии?.. - изумленно проговорил таксист. - Какая ж это Якутия?! Это вообще-то Эвенкия, здесь эвенки были. Но мы их всех выгнали. Они теперь, гады, в лесах ходят и режут наших людей. И с якутами воюют. А мы держимся. Но мы им ничего не отдадим, во-как!
- А кто вы? - спросил Головко осторожно.
- Русские, конечно! Я вот как думаю: все - Русь!
- Это понятно... - начал Абрам.
- Нет! Все, что есть - Русь. И всех надо выпереть. Развели тут пиздоглазие...
- А евреи? - спросил Головко.
- А евреи меня не интересуют. Я - русский человек.
- А эвены? - спросил Софрон.
- Тьфу, - с омерзением произнес таксист.
- А как же Советская Депия? - спросил Абрам;
- Все - Русь, - повторил таксист и обиженно замолчал.
Они мчались по вопиюще неровному шоссе с большой скоростью; машина визжала, словно работающий на пределе старый механизм; никто не ехал ни впереди них, ни сзади; и таксист, как бывалый человек, крепко сжимал свой руль и безучастно смотрел вперед.
- Это Ленин, или Сталин, или Свердлов, или Горбачев сделал всю эту Депию, а на самом деле есть Россия и только Россия, и никаких тебе чучмеков и литовцев! - возмущенно выпалил таксист, повернув свою голову назад и посмотрев в глаза Жукаускасу, пьющему вино. - Были разные губернии, княжества, деревушки, селушки, а всего этого говна разнородного не должно быть. За что сражались? За нанайцев, что ли? Вот всему и крышка, вот всему и конец, вот и трубочка наступила. Еще Петруха Первый когда-то сказал: <Еб вашу мать!> И построил Ленинград, нашу Пальмиру. А если всякая чучуна, всякая мордва, разная там хохлота, беларусня будет права качать, то что же будет-то?! Вот в Америке захотели краснорожие потребовать себе землицы, им сразу - хрясь! И никаких томагавков, никаких бесед. А у нас, значит, надо любую ненчуру уважать? Никогда; я верю, что Россия возродится! Надо их просто по шее, по морде, по почкам, по дыхалке - и все. Ничего; появится еще внушительная русская палица, которая разгромит ихнее у-шу. Воскреснет Иван и покажет свою мотню. Мы еще уничтожим это кощеево племя, разотрем ноженькой эту погань. Мы уже их выгнали из Чульма-на, из Нерюнгри. Я сам чульманец, в Нерюнгри все свихнулись немного на этой - хе-хе - русской идее, но я за Россию готов яйца отдать! Чульман переименуем в Ивановск, А Нерюнгри - в Андреевск. И все это будет Владитунгусская губерния. Или Нижневладитунгусская губерния. Но это еще обсудим, я-то считаю, что Чульман должен стать Николаевском, а есть мнение, что - Андреевском. Но это все неважно, главное их размочить, а они сильны, гниды. Алдан-то не отдают. Так, что, если у вас есть идея захватить Алдан, я с вами. Чтоб везде Русь была! Потому что мир - это Русь, и любовь - это Русь, и хлеб - это Русь, и песня - это Русь, и Бог - это Русь, и я - Русь. И без меня Русь не наполнена, не целиком, не вся. Я - часть, я - даль, я слаб, я смог! Во мне Русью пахнет, в конце концов! Потому что все это - правда, и все это - истина, наше дело - самое наиправейшее, и кривду мы захуячим. С тех пор как Владимирское солнышко встало над большим небом, с тех пор как течет Волга и плещется Селигер, с тех пор как рыщет медведь и работает радио, и до последней битвы с мировой Чучмечью мы будем сражаться за каждую букву твою, о, Русь, доченька моя, цуценька, ладушки. И кто не с нами, тот дурак, а кто дурак, тот козел, а кто козел, тот осел. Понятны вам речи мои, или плохо доходит?!
- Нормально, - надменно сказал Головко.
- Вот и матрешка! - обрадованно воскликнул шофер и снизил скорость.
Абрам Головко подмигнул Софрону Жукаускасу и шепнул:
- А ну-ка дай-ка мне бутылочку, я тоже хочу выпить. Софрон обиженно посмотрел на этикетку и протянул бутылку Головко. Тот вставил ее в рот, наклонил и одним булькающим глотком допил почти все, что было.
- Оставьте мне! - пискнул Жукаускас.
- Ха-ха! - засмеялся Абрам. - Не волнуйся, у меня еще есть. Понял, с кем едешь! Что бы ты без меня делал!
- Вы... - сказал Софрон. - Вы - мой настоящий друг.
- А вот и уголь! - рявкнул таксист, показывая рукой налево.
- Чего? - воскликнули хором Жукаускас и Головко.
- У-голь!!! - прокричал таксист, нажав на клаксон, так что раздалось мощное бибиканье. - Это наша гордость, наше русское чудо, наше достижение, наше черное золото, наше тепло. Видите, какой карьер?! А эти гады - эвенские коммунисты - продали все япошкам. А где деньги, никто не знает. И угля уже почти нет. А может быть, есть. А ведь это нашенский, русский уголь!! Вот какие говнюки, вот какие чудаки. Надо все прибрать к рукам. Вы только посмотрите, как же здесь восхитительно-черно!..
- Да уж, - сказал Софрон и рыгнул.
Слева от дороги на множество километров простирался огромный черный карьер, похожий на некий выход ада на поверхность, разверстую глубь мрака, нереальную земляную тьму. Там стояли большие грузовики, и не было людей; и все было покрыто серебристо-блестящим углем, напоминающим сверкание инея, или бижутерии, и только на горизонте начиналось нечто буро-зеленое, обычное полевое, или лесное. Карьер затоплял простор, словно искусственное безобразное озеро с полностью испарившейся водой; он был громаден и чудовищен, как дракон, распластанный по земле божьей рукой; он потрясал воображение и чувства, как будто великий актер, гениально сыгравший гибель героя; он давил своим существованием, как толща океана во впадине на дне. Он был здесь, как смерть Якутии, как откровение ее недр, как слава ее образа. В нем заключалось Ничто.
- Вот карьер? - спросил Жукаускас.
- Мы их выперли! - гордо заявил таксист. - Мы не дадим им нашего угля, он принадлежит России, так же, как трава, или снег. Впрочем, он им и не нужен, его трудно вывозить, трудно продавать, трудно доставать. Они хотят золото. Вот почему эти падлы в Алдане!
- Да кто это - они? - спросил Головко.
- Да все, - махнул рукой таксист и нажал на газ. - И юкагиры тоже.
Они ехали и молчали, и пили вино, которое было прекрасно на вкус, как лучшая земляника, или поцелуй. Через какое-то время появилась грязная белая табличка с надписью <Нерюнгри>, и тайга справа кончилась, и начались скособоченные разноцветные бараки, как будто собранные изо всех существующих предметов, и они утопали в лужах, словно южные коттеджи в зелени, и телеантенны стояли на каждом из них; а вдали виднелись низкие небоскребы.
И Нерюнгри нахлынул на них, как сияющая волна смыслов, откровений и тайн, и унес их в ужасающую чудную даль своей сумасшедшей кустарной определенности, мистических явлений неожиданных домов из замшелого пестрого мрамора, дрожащего светлого воздуха напряженных радостных небес и блаженных мечтаний о светло-зеленом таежном прошлом, в котором эвенки, словно якуты, произносили великие слова. Он был горбатым, маленьким и большим; в этом городе были дороги и дороги, здания и здания, люди и люди; и он начинался с двух, и существовал, как два. Нерюнгрн жил, будто псих, полюбивший свою искореженную психику, как самого себя. Он вставал над поверхностью почвы, словно белоснежный бог своей красивой земли, зовущий народ на бой и счастье. Он весь состоял из тряпичных ошметок, картонок, ящичков, ржавых труб и ломаных кирпичей. Он был дебильным и приятным на вид, как будто умный лысый пес, стыдящийся своей розовой кожи и смотрящий в женское лицо мудрым звериным взглядом. Нерюнгри звенел льдинкой на морозе, лоснился шелковым бельем на атласных девичьих бедрах, топорщился рогожей на пыльном полу, трепетал красным вымпелом над избой. Он был любым, он был неуловим, он был Россией, он был Андреевском. Он приближался, как высь веры к душе, жаждущей истины, и пронзал величайшую грудь стрелой смирения, словно блестящий творец. Он возносился в чертог победы, как ликующий свет всеведения, и распылялся на всепроникающую субстанцию, словно главный закон мира. Он воскресал из сгоревшего чуда любви, как ангел, победивший самого себя, и низвергался в восторг неизвестного, словно воин правды, не знающий рождения. Он наступал, он был русским, он носил лапти, он пил сбитень и мед. Он соединил в себе Европу и Азию, и он угрожал уже Якутии и плевал на Америку; в нем сочетался призрачный блеск российских трущоб, знойное будущее якутской земли и американская страсть вечно улыбаться. Он был подлинной столицей Тунгусии, и если Россия существовала, она являлась всего лишь небольшим словечком на карте Сибири, а Якутия была сломлена и почти сокрушена этой неизвестной страной, и здесь должна была состояться последняя битв?