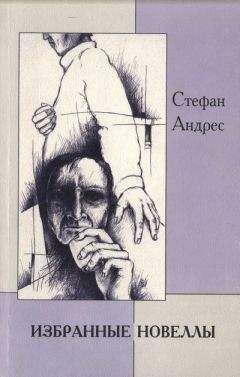Наконец она шевельнулась, словно погрузясь в мысли, и потому бессознательно сбросила обеими руками обнимавшие ее руки. А потом спросила, искоса глядя в землю прямо перед собой и постепенно сдвигая взгляд через край скальной дороги, в глубину.
— Жертву? А знаешь ли ты, что это такое?
Потом вдруг она посмотрела прямо ему в лицо.
— А теперь приведи сюда свою жену. Мне хотелось бы с ней поговорить.
— Аня, зачем ты так, не надо, Аня! — В голосе его зазвучала мольба. — Ты не можешь предвидеть последствий, это было бы несчастьем для нас всех, несчастьем, которое даже нельзя предвидеть.
И снова она медленно-медленно обратила к нему лицо:
— Так я и думала. Значит, по-другому поступить нельзя. Твоя жена, конечно, обо всем узнает, но сердиться на меня она уже больше не сможет, и ты тоже нет. Пьеро, скажи, пожалуйста — нет, не подходи ко мне, оставайся там, нам больше нельзя прикасаться друг к другу… отойди чуть подальше… и скажи еще раз: Космос, о блаженный бог! Пожалуйста, мне надо идти, да-да, я ухожу, к себе, домой, скажи же еще один-единственный раз, Пьеро, я хочу услышать твой голос, как тогда, ты еще помнишь, скажи, пожалуйста: Космос…
Нарни стоял, растерянно отставив руки, а потом воздев их, словно для молитвы, пот струями бежал по его лбу, а голос словно выгорел на пожаре. И с великими трудом, словно слова цеплялись крючками и не могли покинуть его рот, он пролепетал:
— Космос, о блаженный Бог!
Крик был ему ответом, и лишь когда каменный край пропасти принял обычный вид, он расслышал слово, прозвучавшее в этом крике: «Амелия!» Подобно золотому лассо оно упало из воздуха, это слово, и раскачало скальный выступ, где стояла она, и выступ спружинил и превратился в трамплин. И еще он услышал, как сам выкрикивает это слово, но так, словно в нем кричит другой, новый человек, человек, который любит.
1961
Сказать по совести, я вовсе не хотел туда идти. Я заранее мог себе представить, кого там встречу: банкиров, политиков, бизнесменов, военных, ну и несколько журналистов, обязанных порадеть о том, чтобы данное торжество стало достоянием гласности. В ту достопамятную ночь — иными словами, за два месяца до упомянутого торжества — я обговорил с Маурой ситуацию, вернее сказать, обшептал. И мы совместно спланировали небольшую махинацию, которая наверняка сработала бы, не вздумай я по рассеянности надеть не те ботинки, что надо. Я должен был просто-напросто заявиться в Хемхесберг на день раньше, чем положено, а перед виновником торжества сделать вид, будто я перепутал даты. Хадрах клюнул бы на мою спасительную ложь, поскольку с тех пор, как мы с ним знакомы, то есть уже более тридцати лет, я слыву в его глазах неисправимым фантазером. Вдобавок назавтра он едва ли заметит мое отсутствие в рядах торжественной процессии.
Иоганн Вольфганг Хадрах-Зален! Я еще помню, как тогда, по дороге в Хемхесберг, повторял про себя имя супруга Мауры, магически возбуждаемый тяжкой поступью хорея. Зален — фамилию жены он присовокупил к своей лишь основав собственное кредитно-финансовое учреждение, короче говоря, через несколько лет после окончания войны. Соединение собственной фамилии с фамилией жены показалось мне донельзя странным, покуда Маура не просветила меня на этот счет.
Хадрах вернулся домой сразу после конца войны. Будучи профессиональным финансистом, он пересидел смутные времена на востоке, в высоких управленческих структурах, да-да, он именно так их и называл: «смутные времена». А людей, которые были причиной этих времен, он называл не иначе, как «кровавые дилетанты» или, если уж очень заведется, «идиоты», «психопаты», а то и «возведенные судьбой на престол деревенские дурачки». Тот, кому доводилось внимать одному из его нечастых выпадов против ниспровергнутой самим мировым духом власти коричневых демонов, слышал, затаив дыхание и к своему великому удивлению, что зубы в адской пасти минувших лет возникали сплошь из грубых ошибок, а отнюдь не из преступлений, из глупостей, а не из злодеяний, при виде которых умолкает дух, боясь грозящего безумия.
Мы с Маурой сообща пришли тогда к выводу, что Хадрах рассматривает понятия власть и политика, хозяйство и война как высшую, последнюю инстанцию, из рук которой человечество должно смиренно принять свою судьбу. Нет, Хадрах отнюдь не был приверженцем «возведенных на престол деревенских дурачков», он веровал в Гегеля и жутковатую теорию последнего о гармонии, которая в треске костей колесуемых миллионов видит лишь диссонанс, каковой при посредстве мирового разума легко преобразуется в гармонию.
В первые же дни после того, как Хадрах вернулся к жене и детям, он принялся безостановочно писать письма, причем, как заверила меня Маура, преимущественно тем знакомым, которых во время войны и в предшествующие ей годы приветствовал весьма сдержанно и лишь издали. Отец Мауры тоже принадлежал к числу людей, которых решительная и безмерная осторожность Хадраха не подпускала на близкое расстояние. И когда старый Зален тем временем из-за некоего высказывания, которое в свойственном Хадраху стиле было обозначено как вполне «идиотское», навсегда исчез под надзор полиции, зятю его, Хадраху, это послужило убедительным доказательством того, как правильно он поступал, ни разу не приняв у себя в доме и не обменявшись ни единым письмом с этим «хоть и в высшей степени достойным, но безответственным и преступно неосторожным стариком». А тут, представьте себе, буквально за ночь имя доктора Залена, «этого изумительного и отважного человека», в формулировке Хадраха вновь засияло словно звезда среди грязной всеобщей тьмы.
Спустя полтора года, когда скончалась мать Мауры, а мебель и прочие детали обстановки Залена отправились в путь из Берлина на Запад, в дом зятя прибыл и второй подарок «этого изумительного человека». Распаковывая багаж, Маура разбила старинную, очень большую вазу для крюшона. И покуда Маура плакала — перед ее взором вдруг встали присущие отцу осторожные движения разливальной ложкой в темном, глубоком, издающем тихий звон чреве зеленого стекла, — итак, покуда она плакала, взгляд ее упал на Хадраха, и она заметила, как он склонился над осколками и потом снова выпрямился, набрав полные руки пестрых бумажек, потом снова склонился, на сей раз уже быстрей, просмотрел бумаги, покрутил их в руках и неожиданно испустил вздох — можно даже сказать, вздох, исполненный благочестия, как заверяла меня потом Маура. Поначалу она вообще ничего не поняла: ни того, что говорил ее муж, ни того, что означали эти пестрые, покрытые четкой печатью бумаги, которыми была набита ваза. Даже услышав, как губы Хадраха — а, по ее словам, они дрожали во время объяснения — сообщили, что это акции — множество акций крупных и крупнейших немецких фирм — даже иностранных, — ей все еще было непонятно, с какой стати взрослый человек опускается на колени между черепками вазы и, поднося к глазам один листок за другим, приходит в такое возбуждение. Когда Маура благодаря все более радостным восклицаниям Хадраха наконец поняла, что, разбив эту старомодную, по украшениям, судя вообще мещанскую посудину, она волшебным образом вывалила на паркет их столовой огромное богатство, она спросила: «Но Ганс Вольфганг, кому это все, собственно, принадлежит?» Хадрах в ответ на ее вопрос только вытаращил глаза — как злой хищник, у которого хотят вырвать из пасти добычу. Маура же в своей непоколебимой манере заметила, что ее отец, практикующий врач в северной части Берлина, едва ли мог обладать столь объемистыми запасами ценных бумаг. Хадрах, однако, вместо того, чтобы ответить, набил полные карманы пачками пестрых бумаг, наружные карманы, внутренние карманы, и постепенно, весьма тощий в ту пору, он приобрел фигуру, в которой позднее финансовый гений Хадрах-Зален явился миру: широкий, коренастый, боксерская грудь, а живота и вовсе нет.
Маура дважды и наиподробнейшим образом описала мне эту сцену: первый раз после того, как ценные бумаги явились взгляду и Хадрах «вступил во владение». Он выразился именно этими словами. Содержимое вазы для крюшона представляет собой бесхозное имущество, каковое досталось ему — это он говорил улыбаясь — от Гермеса, бога путей и воров, благодаря неумелым ручкам его жены. И в такие катастрофические времена, когда страны и целые народы оказались на улице, где их подбирают те, кто посильней, наклоняться, подбирать и присваивать так же естественно, как естественна была раньше прогулка в бюро находок. А вторично Маура заговорила об этих пакетах месяца два назад. Я с глубокой печалью вспоминаю про этот вечер, который разросся потом до размеров ночи… Перед самым шестидесятилетием своего мужа, почти занявшись приготовлениями к великим торжествам, Маура вдруг надумала развестись с Хадрахом. Дети, единственные, с кем она еще могла бы считаться, успели стать взрослыми, а Хадраху — в чем нет ни малейших сомнений — она больше не нужна. И снова между ними встала старая ваза для крюшона, прибывшая из Веддинга… Если, имея дело с этими бумагами, мы имеем дело с ничейной собственностью, то есть с находкой, которая принадлежит нашедшему, — такие доводы приводила Маура, то ее уж как минимум надо считать сонаходчицей, из чего в свою очередь следует, что ей по закону принадлежит определенная часть. Ее требования, чрезвычайно скромные на мой взгляд, были отвергнуты Хадрахом, поскольку, как он сказал, спустя столько лет совершенно не представляется возможным точно определить ценность этих бумаг. Вдобавок только благодаря его неустанным трудам бумаги приобрели какую-то ценность, ну и наконец: то, что ранее казалось целым состоянием, на деле было не более чем приятная помощь для первых шагов. В остальном же Хадрах проявил изрядную щедрость. Ежемесячная сумма, которую он был готов выплачивать Мауре, свидетельствовала о высочайшем почтении перед именем его фирмы, а может, и о нежности, которую он испытывал к Мауре и которую явно не мог выразить никаким иным способом. Только одно не подлежало сомнению: он изо всех сил противился разводу. Маура и я — оба мы дали ему тогда последний шанс. «Я желаю твердо знать, кто я ему, жена или нет, знать, способен ли он вместо того, чтобы дарить мне меха и жемчуг, уделять мне время, самую малость времени, скажем, один день в неделю. Разве я так уж много требую?» Она медленно по кругу обвела глазами комнату, словно ждала ответа от мебели. У меня в студии стоял глобус с подсветкой, и она попросила меня показать ей, где находится Гонконг. Я показал. «Сейчас он торчит в Гонконге и делает там деньги. А я мечусь, прибегаю к тебе — но и здесь для меня нет места».