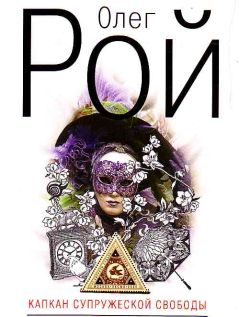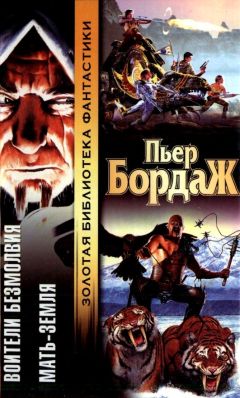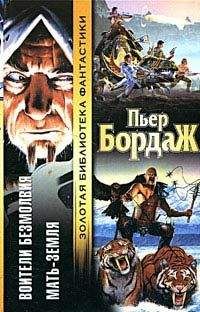— Я не хотел показывать тебе это раньше, — сказал он, отворачиваясь и вновь спокойно берясь за газету. — Я хотел удержать тебя от необдуманных поступков. Но раз ты все равно уже решила и без этого письма…
Он пожал плечами и углубился в чтение. А может быть, только сделал вид, что углубился. Быть может, в нем говорили раненая гордость, и мужское самолюбие, и остатки чувств ко мне, а деланное равнодушие, выставленное напоказ, помогало ему справиться с мыслью о скорой разлуке… Не знаю, что чувствовал он в этот момент. Тогда меня по-женски еще занимало это. Но перестало занимать раз и навсегда, едва я развернула листок, выпавший из старого конверта.
Это было письмо от моей матери, залитое слезами, переполненное помарками и исправлениями, сделанными, должно быть, от душевного волнения и спешки. Письмо, отправленное из Парижа еще в двадцать первом году, добравшееся до большевистской России немыслимыми, неисповедимыми путями — через многочисленные «третьи» государства, с помощью оказии, случайных знакомых и просто незнакомых людей, согласившихся помочь. Оно было отправлено по нашему старому московскому адресу, где жили мы с Николаем еще до революции, — последнему моему адресу, известному родителям, их надежде и ниточке, связывавшей со мной. Там, верно, и забрал его муж, потому что по тому адресу находился теперь приют для беспризорников, директором которого был старый знакомый Николая, превосходно осведомленный о его нынешней должности и новом местожительстве.
Мать писала в этом письме о том, что она очень одинока, больна, и сообщала прискорбные семейные новости. Митя умер на корабле от тяжелых ран и тифа (она, конечно, не могла знать, что мне уже давно известно о его смерти); отец протянул в Париже совсем недолго, сведенный в могилу потерей детей, разлукой с Россией и непривычной, оскорбительной для него нищетой. Немногочисленные знакомые и родственники, осевшие вместе с Соколовскими в одном из бедных районов французской столицы, выживали кто как может, и никто из них не в силах был помочь выжить другому.
«Но я не жалуюсь, — писала мать, и, читая эти слабые, неуверенные от давнишней болезни глаз строчки, я видела ее тонкий и нежный профиль, склонившийся над письмом, ее милую, но гордую улыбку и дорогое, вечное золотое перо в ее руке, подаренное братом Митей на первое его, еще университетское жалованье. Видела — и тут же читала дальше затуманенными от слез глазами: — Нет, я не жалуюсь, хотя мне пришлось продать все, что могло представлять хоть какую-то ценность, даже священные для меня семейные реликвии: браслет, подаренный мне твоим отцом в честь твоего рождения, фамильные жемчуга, оставленные матерью, и даже, представь себе, ручку с золотым пером, купленную для меня Митей задолго до отъезда из России… Что проку жаловаться! Богу угодно было подвергнуть нас всех этим ужасным испытаниям, и, значит, так оно и должно быть. Но я не настолько еще равнодушна к жизни, чтобы не молиться всеми силами души о последнем возможном для меня на этой земле счастье. Я говорю о встрече с тобой, милая, родная, драгоценная моя Наташа. Об этой встрече мечтал перед смертью твой отец, тебя звал в предсмертном бреду твой брат, и я, вслед за ними, зову и прошу тебя: откликнись! Я не знаю, сможем ли еще увидеться на этой земле, но немыслимым счастьем для меня было бы иметь хоть полстранички, исписанные тобой, хотя бы несколько слов привета и ласки — слабый отблеск твоей памяти и любви, чтобы я могла надеяться, ждать и верить, что семья Соколовских не погибла безвозвратно…»
Письмо давно уже было прочитано и перечитано множество раз, почти выучено наизусть, исцеловано моими закушенными до боли губами… А в комнате все стояла тишина, прерываемая лишь мерным тиканьем часов да слабым шорохом страниц «Правды». Все так же падали за окном шуршащие листья, так же постукивал по мостовой дождь и так же молчал, не поднимая головы, мой муж, ожидающий, наверное, от меня первого слова.
— Ты все знал, — сказала я сухо, не понимая, чего именно ожидает он от меня. — Все знал и молчал. Ты давно уже получил это письмо и скрывал его от меня, не желая для себя никаких осложнений…
— Я же объяснил тебе, что не хотел зря расстраивать тебя и толкать на необдуманные поступки, — терпеливо, точно уговаривая малое дитятко, откликнулся Николай. — Я уверен был, что разбитую чашку не склеишь и что мечтать о встрече с матерью, сбежавшей в Париж, для жены комиссара Родионова — нонсенс, невозможность, напрасная головная боль… Я же не знал, какова ты на самом деле. Не знал, что ты готова бросить не только меня, но и Асю во имя призрачной буржуазной мечты и фальшивых семейных ценностей…
— Кто говорит об Асе? — прервала я его, пропуская мимо ушей слова о «буржуазной мечте» и «фальшивых ценностях». — По-моему, о нашей дочери еще не было сказано ни слова. Разумеется, я заберу ее с собой.
Николай высоко поднял брови в непритворном, кажется, изумлении. И сказал — как отрезал:
— Разумеется, этого не будет. Нельзя же иметь все сразу, Наташа. Если тебе хочется предпринимать рискованные и безумные эскапады — это твое дело. Не скрою, ты во многом права, говоря, что семейная жизнь у нас не заладилась и мы давно уже отдалились друг от друга. Поэтому я не стану тебя отговаривать от отъезда и даже — ты и в этом права — попытаюсь помочь тебе. Не скрою я и того, что твой отъезд, быть может, лучший выход для всех нас… Ты только вредишь семье, так что уезжай на здоровье. Но дочь при этом ты не получишь. Она растет в лучшей, самой справедливой стране мира, и она останется здесь. Я не позволю превратить ее в нищую эмигрантку — без прав, без средств к существованию, без Родины. Ася — дочь комиссара Родионова, независимо от того, на какую фамилию ты записала ее когда-то. И она останется со мной.
Я смотрела на Николая, отупев от душевной боли, горечи недавних открытий и грядущих перспектив моей жизни. Вот даже как!.. Затевая этот трудный разговор, я ждала от мужа чего угодно — криков, скандалов, угроз, оскорблений, быть может, слов о любви и призывов вспомнить о прошлом. Не ждала я лишь одного: расчетливого и хладнокровного заявления о том, что мой отъезд — лучший выход для всей семьи. Значит, он давно ждал этого… Значит, сама того не ведая, я давным-давно жила на грани разрыва с человеком, которого когда-то любила и которого так долго боялась обидеть разговором о невозможности дальнейшего совместного существования.
— Почему? — только и смогла выговорить я. — Почему ты считаешь, что я наношу вред тебе и дочери?
— Потому что твое дворянское происхождение для меня уже давно как бельмо на глазу, Наташа. Времена изменились, и если раньше мне было не так просто отбиваться от некоторых вопросов товарищей, то теперь, после смерти Ленина, когда в партии идут большие перестановки и грядут, похоже, великие чистки, — теперь ты стала для меня и для дочери во сто крат опасней, нежели была. Я не буду удерживать тебя.
— Я хотела бы когда-нибудь вернуться к Асе, — прошептала я, не в силах сдержать сдавленное рыдание и пытаясь осознать, как круто вдруг изменилась моя жизнь. Из бунтарки, диктующей правила разговора, я вмиг превратилась в жалкую просительницу — не ту, которую пытаются удержать, а ту, которую гонят прочь от мужа и дочери, как зачумленного зверя. — Скажи, ты веришь, что я смогу увидеть ее… хотя бы через несколько лет?
Родионов философски пожал плечами.
— Не думаю, что это было бы правильно для нашей девочки — встречаться с матерью, променявшей ее на жизнь в капиталистическом обществе, бросившей ее совсем крошкой на руках отца, вечно занятого работой и убитого горем от потери любимой жены.
Я слушала его, почти не веря своим ушам. Он издевается? Смеется надо мной?! Но, взглянув на Николая, я тут же поняла: нет, он не смеется. Он снова репетирует, как когда-то репетировал перед зеркалом в золоченой раме свою речь на революционном митинге. Он примеряет на себя новую маску — брошенного мужа, почти вдовца, сурового и нежного человека, красного комиссара, в одиночку воспитывающего любимую дочь, оставленную пустой и себялюбивой матерью… Я смотрела на него так долго и пристально, что он должен был — просто вынужден — посмотреть на меня в ответ, и в его глазах я увидела пустоту, равнодушие и окончательность приговора, вынесенного мне, — приговора, который больше не подлежал обсуждению.
— Если ты хочешь моего совета, могу сказать лишь одно: подумай еще раз хорошенько, Наташа, — произнес он медленно и строго, складывая ставшую наконец ненужной газету с сухим, раздирающим мне душу бумажным треском. — Подумай хорошенько. А потом, подумав… езжай! Так будет лучше для всех нас, ей-богу. Езжай — и больше никогда, никогда не возвращайся…
18 октября 1924 года, день
С горечью, мукой и с едва выносимой душевной болью пишу последние строки. Я, наверное, никогда больше не возьму в руки эту тетрадь — оставлю ее здесь, в России, у Анечки. Она одна самоотверженно провожает меня до польской границы и когда-нибудь передаст эти листы Асе, выросшей, повзрослевшей и, хочется верить, простившей меня…