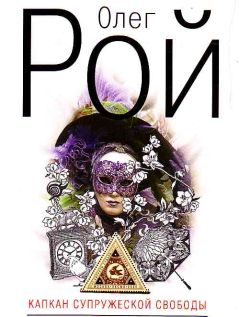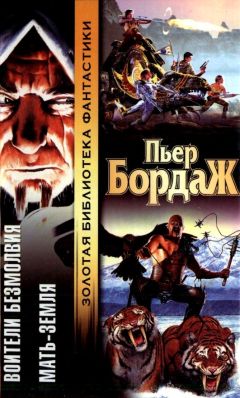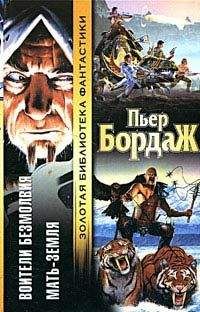— Нет, Саша, не домой. Давай-ка на кладбище, к Натке и Ксюше. Хочу проведать их, поговорить. А по пути заверни в какой-нибудь хозяйственный — знаешь, граненые стаканы купить, простенькие такие, из прежней жизни. И водку бы надо… Впрочем, с этим проблем, конечно, нет.
— Ну зачем это, Соколовский?! — взмолился приятель, тем не менее послушно выруливая на нужную улицу. — Что ты травишь себе душу, чего тебе не хватает? Зачем снова эти могильные впечатления и воспоминания о том, чего изменить все равно нельзя? Сели бы сейчас на кухне, помянули по-человечески… А ты — на кладбище, да с гранеными стаканами… Это же просто как в анекдоте: из больницы — и прямо на кладбище, минуя морг.
Шутка вышла натужной, неловкой. «Ничего, — подумал про себя Панкратов, — авось послушается». Но Алексей упрямо мотнул головой и спокойно повторил:
— На кладбище, Сашка. Оставишь меня там одного, доберусь потом на такси. И прошу тебя, кончай со своими патронажными настроениями. Ты ведь не сиделка, вот и не лезь ко мне. Не сердись, дружище, но все, что мог, ты уже сделал для меня. И я тебе очень за это благодарен. А теперь я должен побыть один. Мне так лучше, понимаешь?
«Да ведь был уже один, сколько месяцев был!» — едва не вырвалось у Панкратова, но, бросив на друга взгляд, он прикусил язык, вздохнул и наклонил голову в знак согласия. Алексей, похоже, действительно говорил правду — его по-прежнему надо было оставлять одного…
Промолчав весь немалый путь, не тревожа молчащего пассажира даже во время необходимых остановок и притормозив, наконец, у ворот кладбища, приятель безнадежно спросил:
— Так что? Правда пойдешь один? И ждать не надо?…
Соколовский кивнул, сглотнув неизвестно откуда взявшийся комок страха, и вылез из машины. Молча купил у степенной, словно застывшей на дороге бабушки два букетика поздних фиалок, молча вошел в старинные, кованые, тяжелые ворота и так же молча, ориентируясь только по памяти, сохранившей обрывки впечатлений от того страшного дня, отправился по скорбной дороге. Неумело маневрируя между чужими могилами и оградками, деревьями и скамейками, он шел, как собака, взявшая след давно потерянного, но все еще любимого хозяина. Шел, как когда-то во сне — мертвенно-белом и холодном от душевной изморози. И то, что теперь на улице было тепло, даже знойно, ничего не меняло в его ощущениях, мыслях и движениях — все они были холодными и словно неживыми.
Алексей увидел их издалека. Взгляд его устремился к надписям на двух крестах — точно так же, как это было в тех снах, когда он тщетно пытался прочесть короткие, строгие надписи. На сей раз имена жены и дочери, полоснув его по сердцу, тотчас испарились из мыслей Соколовского, и он жадно и требовательно впился глазами в фотографии тех, от которых ничего больше не осталось на этом свете. Татка задорно и ласково улыбалась ему со своего любимого портрета — что, мол, папка, как дела, почему так долго не приходил? Ксения смотрела нежно, но отстраненно, куда-то вдаль, в то неведомое и странное, о чем она уже знала и что оставалось еще непознанным для мужа, бывшего старше ее… Фотографии казались совсем живыми, они вели с ним разговор, они о чем-то просили его и расспрашивали, что-то рассказывали ему, не умея утаить это в себе, и горло Соколовского перехватила тугая нежность, так сильно сдавившая ему дыхание, что он закашлялся, отвернулся, потом панически, мысленно бросился за помощью к дочери — ее улыбка на фотографии была как глоток воды, как долгожданное прощение и воплощенная нежность, — и снова, побаиваясь собственной вины, посмотрел на Ксюшу. Но, не в силах поймать ее ускользающий взгляд и не желая этого поединка взглядов, он первым опустил глаза и, с силой толкнув новую тугую дверцу в оградке, вошел внутрь.
Только теперь он заметил, что могилы его родных были ухожены и прибраны. Аккуратно выструганная скамеечка сияла яркой, еще не успевшей выцвести краской, земля под зеленой газонной травкой была умело взрыхлена, и свежие цветы стояли в стеклянных банках, и ни единой соринки вокруг… Кто-то приложил немало сил и стараний, чтобы его девочкам спалось здесь спокойно. В глазах его постыдно защипало от слишком сентиментальной мысли, и Соколовский вспомнил: кажется, Сашка Панкратов упоминал как-то в больнице, что сам все сделал, а потом поручил уход за могилами одной кладбищенской бабушке. «Дал ей немножко денежки, как она выразилась, и бабуля с радостью согласилась. Так что не волнуйся, дружище, там все в порядке…»
Да, здесь ухаживали добрые руки. Соколовский вздохнул, вытащил три чистых стакана, купленных Панкратовым по дороге на кладбище, разлил по ним чистую, как слеза, жидкость и присел на скамейку. «Вот и я, мои хорошие, — тихо произнес он про себя. — Вот я и снова с вами…»
Мысли его текли спокойно и плавно, и горечь, испытываемая им все эти месяцы, точно смешавшись с горечью водки, вдруг превратилась из сердечной боли в странное душевное спокойствие, из чувства — в воспоминание, из невыносимого металлического вкуса во рту — в легкий, тающий в воздухе запах полыни… И он, не замечая, что говорит вслух, не ощущая, где кончаются его сны и виденья и начинается явь, продолжал все так же тихо, обращаясь к своим девочкам и твердо зная, что они слышат его.
— Вот и я, мои хорошие. — Он шевелил губами, и ветер относил его слова ввысь, в синеву, будто маленькие белые облачка. — Вот и я, здравствуйте… Простите, что так долго не приходил. Мне было плохо без вас, и я не понимал, что здесь, на кладбище, мне станет легче. Здесь, где так осмысленно, так бессмертно звучат ваши имена: «Соколовская, Ксения Георгиевна… Соколовская, Наталья Алексеевна…» Вы ждали меня, пока я прятался от вас в больнице, не знал, куда девать себя и как жить дальше… Руки на себя хотел наложить, но вовремя сообразил, что тогда уж, самоубийца, точно не увижу вас: никогда, никогда… Спасибо, что удержали меня от этого смертного греха. Спасибо, что позвали меня сюда сегодня. Спасибо, что слышите меня и спасаете от ада, хотя, верно, только туда мне и дорога. Родные мои, спасибо… Я помню о вас, я слышу ваши голоса. Но кто-то говорил мне: «Оплакивая умерших, не забывай о тех, кто еще жив…» Кто же это был, кто? И разве вы — не живые?…
— Оплакивая умерших, сынок, не забывай о тех, кто еще жив.
Соколовский вздрогнул и обернулся.
Старая женщина — очень старая, древняя — стояла позади него, взявшись сухой, жилистой рукой за ограду и опираясь на костыль.
«Точно как тогда, — мелькнуло у него в голове. — Сзади, и неожиданно, и те же слова… Но почему я не ощущал ее взгляда затылком, как было во сне, почему не чувствовал страха и холода?…» А женщина меж тем продолжала говорить удивительно певучим, красивым языком — так уж не говорят теперь русские люди, подумал он.
— Я вот гляжу — кто-то к девочкам моим в гости пришел. Дай, думаю, подойду, познакомлюсь. Подошла и увидела: убиваешься ты слишком, сам себе не рад, ничего не видишь кругом… Грех это так сильно о мертвых печалиться. Отпустить их на волю тебе надо и себя отпустить, чтобы освободиться вам всем от твоей печали. Отпустить и начать жить дальше. Поплакать, чтобы легче стало, — и жить.
И тут Алексея осенило:
— А вы, видно, та самая добрая душа, что согласилась присмотреть за могилками моих родных? Спасибо вам за этот труд.
— Да какой же тут труд, сынок? — искренно изумилась старуха. — Мне это в радость. Я ведь не только за твоими могилами здесь ухаживаю, еще несколько есть. Просят добрые люди — у самих-то времени не хватает каждый день здесь бывать, — а я и рада послужить хорошему делу. Где цветы посажу, где приберу, где оградку подкрашу, мне не в тягость…
Надо же, словоохотливая какая, мимолетно подумал Алексей. Но странно: ни присутствие этой незнакомой женщины, ни журчащий ручеек ее слов не были для него утомительны. Напротив, его тянуло отчего-то открыться ей, испросить совета, просто поговорить ней ни о чем — быть может, о жизни, быть может, о смерти… А старуха тем временем, кряхтя, присела на скамейку рядом с ним, покачала головой, глядя на стаканы с водкой, и участливо спросила:
— Что ж ты, совсем один остался? Все твои здесь лежат?
Он кивнул, не в силах говорить об этом, и все же задал вопрос, на который прежний Соколовский точно посчитал бы себя неспособным по отношению к незнакомому человеку:
— А вы, бабушка? У вас-то есть семья?
— Какая семья! — усмехнулась его собеседница. — Вот она, моя семья, вся вокруг лежит — чужие могилы да чужие родственники. Жизнь ведь, она, сынок, такая: кого на кладбище смерть любимых приводит, а кому просто деваться некуда. Я когда-то хорошей учительницей была, и мужа любила, и сына растила. А потом мужа ночью в НКВД забрали, а после и я за ним в лагеря пошла. Видно, слишком рано мы для счастья родились, а может, и оно, счастье-то это, не нашим оказалось… Двенадцать лет в ссылке я все о ребенке думала, все его приютскую жизнь оплакивала. Мужа увидеть не довелось, да и сына, вернувшись, не узнала — не по той он тропочке пошел. Совсем другим человеком стал, чужим. Слышу о нем иногда так, стороной, да и то, что слышу, меня не радует… В школу после устроиться не смогла, уборщицей свой век доживаю. И хоть не жалуюсь ни на что, а все ж иногда думаю: в чем же наша с Сереженькой вина была? В том, что жили хорошо да любили друг друга? В том, что чью-то зависть вызвали, такую сильную, что этот человек на нас донос написал, не посовестился? За что ж вся наша жизнь под откос пошла?…