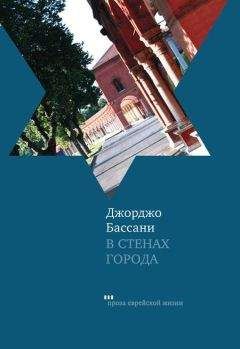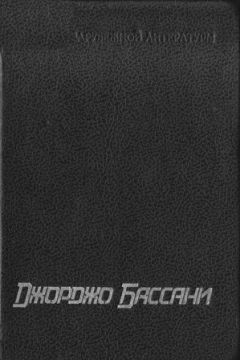— Сыграем еще сет?
— Сыграем-то сыграем, но сколько геймов ты мне дашь форы?
— Ни одного, — резко ответила Миколь, прищурившись. — Я могу уступить тебе подачу, и это все. На, подавай!
Она перебросила мяч через сетку и отошла, чтобы принимать подачу противника.
Некоторое время мы с Альберто смотрели, как они играют. Я чувствовал себя очень неловко и был несчастлив. Это «ты», с которым Миколь обратилась к Малнате, ее упорное нежелание замечать меня заставили меня понять, что мое отсутствие было слишком долгим. Что же касается Альберто, то он глаз не сводил со своего Джампи. Но я заметил, что теперь он не восхищается и не любуется им, а смотрит на него критически.
— Знаешь, он принадлежит к тому типу людей, — прошептал он мне доверительно, и само это было так необычно, что, несмотря на все мои переживания, я не мог не заметить этого, — он принадлежит к тому типу людей, которые могут брать уроки игры в теннис хоть каждый день, хоть у самого Нюслейна или у Мартина Плаа, но никогда не станут даже посредственными игроками. Чего же ему недостает? Давай посмотрим. Ноги? Нет, конечно, иначе он бы не стал даже скромным альпинистом, а он хороший альпинист. Дыхание? Тоже нет, по той же причине. Сила? У него ее явно в избытке, достаточно пожать ему руку, чтобы это почувствовать. Что же тогда? А дело в том, что теннис, — заключил он необычайно высокопарно, — это не игра, это искусство, и как любое другое искусство требует особого таланта, природного дара, без которого ты всегда, всю жизнь будешь тюфяком.
— Что вы там делаете? — вдруг закричал нам Малнате. — Вы что, критикуете меня?
— Играй, играй! — крикнул ему в ответ Альберто саркастически, — и постарайся, чтобы женщина не одержала над тобой верх.
Я не верил своим ушам. Неужели это возможно? Куда подевалась вся мягкость Альберто, все его преклонение перед другом? Я посмотрел на него внимательно. Его лицо неожиданно показалось мне осунувшимся, побледневшим, как будто иссушенным тайным недугом. Может быть, он болен?
Мне хотелось спросить его, но я не осмелился. Вместо этого я спросил, в первый ли раз они играют в теннис в этом сезоне и почему не пригласили, как в прошлом году, Бруно Латтеса, Адриану Трентини и всю остальную компанию.
— Так ты совсем ничего не знаешь! — воскликнул он, смеясь и показывая крупные передние зубы.
И он тут же пустился рассказывать мне, что примерно неделю назад, когда установилась хорошая погода, они с Миколь решили обзвонить знакомых с благородной целью: возобновить теннисные баталии прошлого года. Они позвонили Адриане Трентини, Бруно Латтесу, тем двум ребятам, Сани и Коллеватти, и еще нескольким замечательным представителям обоего пола и младшего поколения, о которых прошлой осенью они не подумали. Все приняли приглашение сразу же и с радостью. День открытия сезона был назначен на первую субботу мая (жаль, что я не смог принять в этом участия!). Успех был оглушительный! Они не только поиграли в теннис, поболтали, пофлиртовали, но даже потанцевали, там, в хижине, под звуки радиолы, специально туда перенесенной.
Вторая встреча имела еще больший успех. Она состоялась в воскресенье, второго мая. А в понедельник утром, третьего мая, начались неприятности. Предварив свое посещение визитной карточкой, часов в одиннадцать пожаловал адвокат Табет на велосипеде. Да-да, тот самый Джеремия Табет, фашист из фашистов, сам лично! Закрывшись с папой в кабинете, он передал категорический приказ секретаря местного отделения фашистской организации немедленно прекратить ежедневные скандальные, провокационные сборища в доме, сборища, лишенные, кроме всего прочего, какого-либо здорового спортивного начала. Консул Болоньези велел передать их общему другу, что совершенно недопустимо, по вполне понятным причинам, чтобы сад дома Финци-Контини постепенно превращался в клуб, составляющий конкуренцию «Элеоноре д'Эсте», этому исключительно благонамеренному городскому спортивному клубу. Поэтому впредь под угрозой официальных санкций (несогласные тотчас будут исключены) членам клуба запрещается играть на других площадках и привлекать к этому остальных.
— А отец, — спросил я, — что ответил?
— А что бы ты хотел, чтобы он ответил? — засмеялся Альберто. — Ему оставалось только вести себя, как дон Аббондио: поклониться и прошептать: «К вашим услугам». Думаю, что он примерно так и ответил.
— Я думаю, что все это затеял Барбичинти, — крикнула с корта Миколь, которой расстояние, очевидно, не помешало следить за нашим разговором. — Никто не убедит меня в том, что это не он побежал жаловаться на аллею Кавур. Могу себе представить. Ну, его можно извинить, бедняжку: когда ревнуешь, делаешься способным на все.
Хотя Миколь сказала это без всякой задней мысли, ее слова болезненно задели меня. Я уже собрался встать и уйти.
И кто знает, может быть, мне бы и удалось выполнить это мое намерение, если бы именно в этот момент я не обернулся к Альберто, ища у него помощи и поддержки, и снова не заметил, как он необычайно бледен, как исхудал, каким широким сделался его пуловер (он подмигивал мне, как будто просил не обижаться, а сам уже говорил о другом: о корте, о том, что через неделю его начнут наконец перестраивать) и если бы в тот самый момент не появились на краю площадки две согнутые темные фигурки: профессор Эрманно и синьора Ольга, вышедшие на свою ежедневную прогулку по парку и медленно направлявшиеся к нам.
V
Долгие месяцы, которые последовали за этим вплоть до роковых дней августа 1939 года, до кануна нацистского вторжения в Польшу и «странной войны», вспоминаются мне как медленное, постепенное погружение в воронку Мальструма. Нас осталось четверо: я, Миколь, Альберто и Малнате. Мы были единственными хозяевами теннисного корта, заново вымощенного красным песком из Имолы (на Бруно Латтеса, ни на шаг не отстающего от Адрианы Трентини, рассчитывать не приходилось). Мы менялись парами и проводили целые дни, разыгрывая бесконечные партии, Альберто всегда был готов поддержать компанию, даже если быстро выдыхался и уставал. Он никогда не хотел дать передышку себе или нам.
Почему я с такой настойчивостью приходил туда каждый день, хотя прекрасно знал, что меня ждут только унижения и горечь? Я не могу этого объяснить. Может быть, я надеялся на чудо, на неожиданный поворот дел, а может быть, я их и искал, этих унижений и этой горечи… Мы играли в теннис, если Альберто соглашался на короткий перерыв, растягивались в шезлонгах, поставленных в тени, возле хижины, спорили, в особенности я и Малнате, о политике, об искусстве. Но когда я предлагал Миколь, которая оставалась со мной в общем-то очень милой, а иногда даже очень дружелюбной, прогуляться по парку, она редко соглашалась. А если и соглашалась, то шла неохотно, на лице у нее появлялось смешанное выражение неудовольствия и презрения, поэтому я быстро начинал сожалеть о том, что увел ее от Альберто и Малнате.
И все же я не сдавался, я не мог успокоиться. Я разрывался на части между желанием порвать, исчезнуть навсегда и другим, прямо противоположным — постоянно приходить сюда, ни за что не уступать. Кончалось это тем, что я не пропускал практически ни одного дня. Иногда, правда, было достаточно одного взгляда Миколь, более холодного, чем всегда, одного нетерпеливого жеста, саркастической гримасы, выражения скуки, чтобы я твердо сказал себе, что решил раз и навсегда, и я уходил. Но сколько времени мне удавалось пробыть вдали от нее? Три-четыре дня самое большее. На пятый день я снова возвращался, придав лицу самое независимое и непринужденное выражение человека, который вернулся из какого-нибудь путешествия (я всегда говорил о поездках, когда появлялся снова: поездках в Милан, во Флоренцию, в Рим, и хорошо еще, что все трое делали вид, что верят мне!), но сердце у меня сжималось, а глазами я сразу же начинал искать Миколь в ожидании ответа, которого никогда не мог получить. Это было время «семейных сцен», как их называла Миколь, во время которых я даже пытался поцеловать ее, если представлялся такой случай. Она терпеливо все сносила и всегда была подчеркнуто вежливой.
Однажды июньским вечером, примерно в середине месяца, положение осложнилось.
Мы сидели рядом на ступеньках хижины. Было уже восемь, но еще довольно светло. В отдалении я видел, как Перотти снимает и сворачивает сетку на корте. С тех пор как на нем сменили покрытие, он никогда не казался Перотти таким же аккуратным и ухоженным, как прежде. Малнате пошел принять душ в хижине (у нас за спиной раздавалось его шумное дыхание и плеск водяных струй). Альберто ушел еще раньше, меланхолично попрощавшись с нами: «бай-бай». Мы остались одни, я и Миколь, и я сразу же воспользовался этим, чтобы возобновить свою абсурдную, надоевшую, вечную осаду. Как всегда, я настаивал, что она ошиблась, объявляя невозможными какие-либо нежные чувства между нами, как всегда, я обвинял ее в том, что она обманывала меня, когда всего месяц назад уверяла, что между нами нет никого третьего. По-моему, третий был, а может быть, и есть, но был наверняка зимой в Венеции.