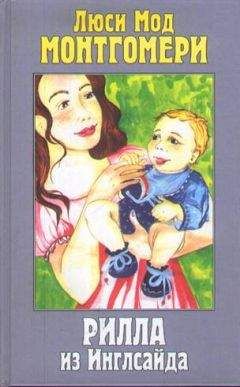— Мне сложно там жить. Я не могу учиться. Не могу рисовать. Я ведь плохо рисую, правда?
Правда. Сейчас будешь все валить на них. Они такие плохие. Они тебе не дают жить. Мешают. Кажется, их только для того и придумали, чтобы все на них валить. Скажешь тоже, мешают. Ну, знаю, видела обоих. Но рисуешь-то ты плохо не потому, что они тебе мешают. Просто ты плохо рисуешь.
— Правда. Но ты умеешь учиться. Если будешь работать больше, то сможешь лучше. Может, у тебя не совсем подходящие условия. Знаешь, что я тебе скажу — если ты будешь заниматься живописью как можно больше, и рисунком тоже, и композицией обязательно, то тебе будет легче не обращать на них внимания. Приходи сюда, когда свободен. Отрабатывай технику. Только ночевать иди домой, а то.
Я вас прекрасно понимаю, Катерина Геннадьевна, и про условия, и про то, что работа помогает, и про то, что красть нехорошо, но вы мне выбора не оставляете, я не хочу быть в будущем лучше, я не хочу быть художником, я хочу просто пожить чуть-чуть, и еще я знаю, что вы в них смыслите еще меньше, чем я, поэтому достаю этот дурацкий пистолет и упираю в нижнюю челюсть, дулом вверх. Она ахает и говорит:
— Да он у тебя хоть заряжен?
— Правильно, Катерина Геннадьевна, это я лажанулся. — Достаю обойму, вставляю и опять упираю в нижнюю челюсть.
Катерина Геннадьевна опять ахает, пытается подняться мне навстречу, охает: нога. Не получается. Она говорит:
— Знаешь, это не по-мужски. Это называется шантаж.
— Знаю, что шантаж. Знаю, что не по-мужски. Это по-женски, нет, по-свински. Вы разрешите мне здесь переночевать, а завтра я уйду.
— Ты откуда это взял, — говорит.
Я отвечаю откуда. Не понимаю, говорит она, зачем твоему отцу пистолет и зачем он его оставляет на видном месте. Я этого тоже не понимаю. Отец, я многое не понимаю про него. Что и зачем он делает. Могу объяснить, что и зачем я делаю. Знаешь что, говорит она, у меня зверски болит нога и мне плевать, что у тебя пистолет. Можешь оставаться здесь, если хочешь. Завтра я приду в шесть часов, если мне вообще удастся куда-нибудь уйти отсюда, если мне вообще удастся потом выйти из дома. Ты можешь здесь остаться до завтрашнего вечера, а потом уходи. Мне все равно куда.
Вот еще одно слово, не имеющее смысла: “вообще”. Как это — “вообще выйти из дома”. Вообще можно выйти, извольте, но вообще выйти из дома — это слишком конкретно. Вообще выйти из вообще дома. Вообще-Катерина-Геннадьевна вообще-утром вообще-вышла из вообще-дома. Можно еще сказать: вообще-из. Нет, нельзя: вообще-дом может быть, а вообще-из не может быть. Из — это всегда вообще. Вообще вообще. Перестаньте, Катерина Геннадьевна, смотреть на меня как на вообще-ученика вообще-тринадцати лет. Вообще тринадцатилетним нельзя уходить из дома, прихватив с собой пистолет, а мне, вообразите, можно. Вообразите себе, что мне можно все. Вам тоже можно все, хотя вообще-то нельзя. Интересно, какую часть всего сказанного я произнес вслух, какую про себя. Про себя вслух. Про вообще — про себя.
Как это было мило, это я от себя говорю, что она все-таки согласилась, то есть она сделала вид, что ей вообще все равно, а в частности она испугалась-таки, что я себе разнесу башку из этого шутовского орудия, а ей так было больно, так хотелось домой, погреть свою ногу в ванной, где синяя рухлядь не мокла, где даже отшелушившаяся штукатурка имела вполне респектабельный вид. Люблю респектабельную бедность, не люблю деньги, когда они валяются вот так, а в ванной муравьеды. Ах да, деньги. Последняя просьба. Катерина Геннадьевна, вы не могли бы разменять вот это, мне самому трудно будет. Да, и это тоже. Знаете ли, если спать, то с королевой, если красть, то миллион, такая поговорка, и еще: у вас, конечно, нет телефона моих родителей, но если вы завтра сюда придете с участковым, то я все-таки пущу себе пулю в лоб. Мне, Катерина Геннадьевна, правда с ними очень тяжело.
Не включай свет, сиди тихо, можешь звонить по телефону. Захочешь есть — кстати, что ты будешь делать, если захочешь есть? Ничего, ничего, я не захочу. Если захочешь есть, то там — на ящике стола — остались сушки. Нет, не остались. Если захочешь есть, хы-хы, ешь муляжи. Благодарю покорно, обязательно съем, обожаю муляжи. Вода в кране есть. Постарайся придумать, как сделать так, чтобы завтра твоего духа здесь не было. Постараюсь. Прихрамывает. Довожу до выхода. Выздоравливайте, Катерина Геннадьевна, осторожней. Со всем возможным для ее мимики презрением: спасибо. Потуши свет. Тушу. Я позвоню. Ключ с той стороны поворачивается.
От скуки ты начинаешь ходить по темным классам и трогать разные предметы, предназначенные для того, чтобы на них смотреть и срисовывать, а не для того, чтобы щупать. Интересно, скульптор трогает то, что хочет вылепить, или нет? Вас, конечно, учат не трогать, но мало ли чему вас там учат. Особенно если модель — человек, ну как его не потрогать. Роден и Клодель. Очень сомневаюсь. Много учите, мало получите. Вы все учите не тому, хотя и тому, конечно, тоже. Вот вы упали, Катерина Геннадьевна, и вам больно. А мне как больно смотреть, как вам больно. Потому, что вы делали жесты, ну и я, я тоже делаю жесты. А иначе — откуда вам знать. Падаю: раз, падаю: два, не получается. В темноте никто не увидит. Один раз в коридоре, говоря с заведующей учащимися (если произносить полностью, то обилие шипящих выдаст змеиную сущность этого человека, а если так, как все, то есть зауч, то заунывные звуки опишут ее заунывное тело оплывшей дугой), новый подступ: один раз в коридоре, говоря с завучем (мужской род слова откроет, что женского в этой зазнавшейся бабе осталось чуть, получился зазнавшийся дед), третий подступ: один раз в коридоре я взял и упал просто так, чтобы выразить степень отчаянья. Ты чего, говорит (че-го-го, этот гогот призван выразить длинную шею и шепелявость той, которую сложно назвать и невозможно описать) — ничего, это я так, оступился. Паясничаешь, говорит, нет, говорю, просто так, оступился. Завуч — с мягким знаком на конце, слово женского рода по форме и среднего рода по сути, как сволочь, — покачала своей головой и сказала: семь троек, три двойки, пятерка по биологии, с такими оценками перевести не сможем, приведи родителей в школу. Не привел. Перевели. Это так, не по делу. Репетирую жест отчаянья: пистолет, оскопленный на случай непредвиденной дрожи в указательном пальце, приставляю то к горлу, то к носу. Надоедает, тогда опять прикасаюсь к предметам, как-то: узкогорлый кувшин с нелепой какой-то лепниной в боку, словно кишки выпирают из толстого брюха, затем — восковой, с заусенцами, шар, противный на ощупь, затем — чучело курицы со стеклянными гладкими глазками, шершавыми лапками и палкой, торчащей из брюха, чтоб ставить, затем — руку скелета с прекрасными тонкими пальцами, затем — гипсовый череп со сросшимися челюстями, затем — широкий сосуд без глазури, с одним ущербленным бочком, с коротеньким клювом, должно быть, для молока, а может, для красоты. Голову скелета трогаю тоже, с опаской, известно, что нижняя челюсть держится, можно сказать, ни на чем. В этой студии, если подумать, одни черепа: взять этот горшок — чем не череп, а если разбить, черепки. Восковые плоды: получаются из искусственных цветов. Искусственные цветы вырастают на кладбищах, там, где лежат черепа и зарыты керамические горшки с измельченными, опять-таки, черепами, костями и всякой прочей дрянью. Посмотреть в керамических горшках: нет ли. Что-то похожее: высохшая вода и канцелярские кнопки. И никто не узнает, что я здесь делаю. Правда, я здесь не делаю ничего, и это обидно. Что здесь можно сделать?
Звонок. Кто бы это? Опять звонок. Подходить или нет? Лучше не подходить, но вдруг понимаю, что это может быть Катерина, и если она, то начнет волноваться и позвонит куда, как ей кажется, надо. Подхожу, беру.
— Как ты здесь, ничего — да, ничего, как ваша нога — ничего — вот и прекрасно, тут ничего, и там ничего, — позвони домой, чтобы не стали искать, а то ведь найдут, угу, позвоню.
Действительно, стоит туда позвонить. Набираю. Гудки. Гудки. Гудки — о, взяла:
— Ты где?
— Да вот у знакомых, нет, не скажу, у каких, не вернусь, вы меня уже оба. Нет, не у него, нет, не у него. Завтра приду за вещами и перееду к… — к сестре. И в самом деле. Как это я сразу. Нужно было к сестре. Сестра в общежитии мертвую душу купила и с нею живет. Скучно с мертвой душой, сестра, лучше живую. У меня живая душа, родная вдобавок. Нет, надоело — это я ей, к Оксане поеду. Школу брошу, у Оксаны другую найду. И художественную брошу, и всех вас брошу к чертям. Кладу трубку.
Звонок. Кто бы это — знаю, опять Катерина. Катерина Геннадьевна, да, позвонил, я знаю, поеду к сестре. Сестра в общежитии мертвую душу снимает, нет, не родная, двоюродная сестра, и вот что, Катерина Геннадьевна, я эту школу бросаю, бросаю совсем, так что вы не беспокойтесь, я завтра отсюда уйду.