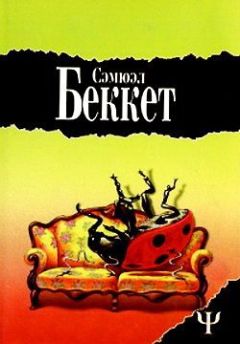На пляже мы — я и несколько пловцов, увидевших или услышавших мои крики о помощи, — вытащили Ауру из воды и сперва положили ее на вымытый волнами, похожий на траншею склон, но потом мы снова подняли ее и перенесли туда, куда волнам было не добраться, и опустили на горячий песок. Она боролась за глоток воздуха, открывая и закрывая рот, шепча только одно слово: «воздух», когда снова хотела, чтобы я прижался своими губами к ее. Она произнесла что-то еще, я толком не запомнил (я вообще тогда мало что запоминал), но ее кузина Фабиола, прежде чем побежать за скорой, услышала ее слова и позже передала мне. Это были одни из последних ее слов, обращенных ко мне:
Quiéreme mucho, mi amor.
Люби меня сильно, любовь моя.
No quiero morir. Я не хочу умирать. Наверное, то была ее последняя в жизни фраза, возможно, самые последние ее слова.
* * *
Выглядит ли это самооправданием? Должен ли я запретить себе делать подобные заявления? Аура молила и заклинала любить ее. Уверен, это произвело бы благоприятное впечатление на любых присяжных и заставило их симпатизировать мне, но я не в суде. Мне нужно посмотреть в лицо голым фактам, и нет возможности обмануть того судью, перед которым я предстаю теперь. Все здесь имеет значение, любая мелочь — улика.
Неужели это действительно происходит, mi amor? Неужели я снова вернулся в Бруклин без тебя? В первый год после твоей смерти и до сих пор, везде и всюду, болтаясь по кварталу, прилипая к запотевшим витринам и вглядываясь в выученные наизусть меню, я думал: какое блюдо на вынос выбрать, в каком дешевом ресторанчике перекусить, в каком баре опрокинуть одну, или две, или три, или пять рюмок, чтобы не чувствовать себя таким безраздельно одиноким — да и есть ли на земле место, где я не буду так одинок?
Последние пять лет до встречи с Аурой я был одинок как никогда. В течение года и нескольких месяцев после ее смерти мне было еще хуже. А как насчет четырех лет в промежутке? Стал ли я другим, не тем, кем был до этих четырех лет? Стал ли я лучше, благодаря подаренным мне любви и счастью? Благодаря тому, что подарила мне Аура? Или это был все тот же я, которому просто несказанно везло четыре года подряд? Четыре года — не маловато ли для взрослого мужчины, чтобы коренным образом измениться? Или четыре года могут стать настолько важными, что их значимость перевесит все остальные, вместе взятые?
После смерти Аура не снилась мне около месяца, хотя ее присутствие ощущалось по всему Мехико. Позднее, осенью, перед началом семестра, я увидел первый сон, в котором мне было необходимо срочно купить мобильный телефон. В центре буйного зеленого луга, затянутого серебристым туманом, я наткнулся на деревянную лачугу, оказавшуюся магазином мобильной связи. Я вошел. Мне отчаянно нужно было позвонить Венди, еще одной сокурснице и подружке Ауры. Я хотел спросить, скучает ли Аура по мне. Я хотел задать Венди буквально следующий вопрос: скучает ли она по нашим будням? Я вынес из хижины телефон — серебряный с темно-синими кнопками — и пошел в поле, навстречу туману, но мобильник никак не включался. Расстроенный, я выкинул его.
Скучаешь ли ты по нашим будням, mi amor?
Неужели это с нами действительно происходит?
Дегро-стрит, где мы жили, проходит негласной границей между Кэрролл-гарденс и Коббл-хилл. Наша квартира была на стороне Кэрролл-гарденс, а Коббл-хилл располагался на другой. Когда я только переехал сюда, за четыре года до встречи с Аурой, Кэрролл-гарденс все еще напоминал легендарный квартал Бруклина, где селились итальянские иммигранты: старомодные итальянские рестораны, где раньше можно было встретить гангстеров и политиков, уличные статуи непорочной девы, старички, катающие шары на площадке, и подчас, особенно летними вечерами, мне было боязно пробираться сквозь шумные толпы собиравшихся там крутых парней. В Коббл-хилл родилась мать Уинстона Черчилля. Место и по сей день выглядело внушительно: епископальная церковь с витражами, созданными в мастерской Тиффани, причудливый каретный двор и парк. Теперь Кэрролл-гарденс и Коббл-хилл почти слились воедино, здесь осели в основном молодые преуспевающие белые. Одиннадцатое сентября только ускорило процесс слияния, превратив кварталы в милый, спокойный, почти домашний район на другом берегу Ист-Ривер. Теперь днем на тротуарах Корт-стрит вам придется протискиваться сквозь вереницы детских колясок, заходить на ланч или кофе в места, оккупированные молодыми мамами или парочками, а также неприличным количеством писателей. Созданные итальянцами клубы превратились в неформальные коктейль-бары. Почти повсеместно особняки, давным-давно перестроенные в многоквартирные апартаменты, заново переделывались в дома для одной семьи. В нескольких кварталах, прямо напротив Бруклинской королевской автострады расположился Ред-Хук, гавань и порт, где в туманные ночи слышны были предупреждающие корабельные гудки; Ауре это нравилось, словно пловец, она изящно придвигалась поближе, сворачивалась в постели и замирала в ожидании, когда длинные скорбные звуковые волны, подобно глубоководному скату, перекатятся через нас в темноте.
Здесь Аура занималась йогой, а это спа-салон, куда она ходила на массаж, если сдавали нервы, а вот ее самый любимый, а вот просто любимый модный бутик, а это наш рыбный магазин, а здесь она купила те забавные очки с желтоватыми стеклами, а вот забегаловка, где мы перекусывали бургерами и выпивали длинными вечерами, а это кафе для поздних завтраков, а это «ресторан-где-мы-всегда-ссоримся» — вот во что превратились прогулки по этим улицам, в безмолвное перечисление памятных мест. В окрестностях было полно итальянских пиццерий и ресторанчиков с мангалами, а у выхода из метро на углу Смит и Берген располагалась маленькая, одинокая, стерильно чистая «Домино-Пицца». Туда в основном захаживали обитатели жилого комплекса на Хойт-стрит, а также чернокожие и латиноамериканские подростки из близлежащей школы. Однажды, когда мы поздно возвращались домой после посиделок с друзьями, Аура, не говоря ни слова, ворвалась в стеклянные двери «Домино», задержалась у прилавка — клянусь, не больше минуты — и выскользнула наружу с гигантской коробкой пиццы в руках и улыбкой в духе «смотри-что-мне-только-что-досталось». В этот час все приличные места, подающие пиццу, были уже закрыты, но, готов поспорить, в тот момент ни одно из них не смогло бы утолить голод Ауры так, как «Домино». Там, где она выросла, в Мехико, посреди жилой застройки южной части города, каждый вечер целая армия, тысяча тысяч курьеров в шлемах, кружа и жужжа, будто пчелы, на своих мотоциклах по запруженным автострадам и улицам, доставляет пиццу в дома и семьи работающих или одиноких матерей, таких как мать Ауры. Теперь каждый раз, проходя мимо «Домино», я вижу, как она выходит из дверей — с пиццей и этой улыбкой на губах.
Давно не действующая, грязноватого вида католическая церковь напротив нашего дома была преобразована в кондоминиум (застройщики — ортодоксальные евреи, рабочие — мексиканцы); Аура порадовалась бы новой пиццерии «Трейдер Джо» неподалеку, которая открылась на пересечении Атлантик и Корт; на Смит-стрит появилась лавка с тако, точно такая, как мы собирались открыть с Зойлой, но ее бутик в прошлом году закрылся, и я до сих пор не знаю, куда она подевалась. За углом было затрапезное, но популярное кафе с вай-фаем, где Аура любила заниматься, когда не уезжала в университет. Ей было легче сконцентрироваться там, чем дома. Без меня, требующего ее внимания или секса или шумно стучащего по клавишам в соседней комнате, без матери, звонящей из Мехико. Я вижу ее сидящей за одним из столов у кирпичной стены, с недоеденным бубликом, торчащим из бумажного пакета, и чашкой кофе, волосы собраны сзади заколкой или красной лентой или завязаны в узел, чтобы не падали на глаза, когда она склоняется над ноутбуком в наушниках, слегка покусывая нижнюю губу, решительное, сосредоточенное лицо, а я стою и смотрю на нее или притворяюсь, что никогда раньше ее не видел, и жду, чтобы она подняла глаза и заметила меня. Я тоже приходил поработать в это кафе. Она не возражала. Мы сидели за одним столиком, обедали или делились бубликом или пирожным. Теперь я просто по утрам беру кофе на вынос. Стоя в неминуемой очереди, я гляжу на ряды столов, длинную голубую скамью вдоль стены, незнакомцев, сидящих на ней со своими компьютерами.
Я не выбросил и не убрал ни одной ее вещи, они так и лежат в комоде и в гардеробной. Ее зимние куртки и пальто, включая пуховое, так и висят на вешалке у входной двери. По меньшей мере раз в день я открываю комод, подношу стопку ее одежды к носу и расстраиваюсь, что она все сильнее пахнет древесиной, чем Аурой, а иногда я вытряхиваю содержимое ящиков на кровать и ничком ложусь на ее вещи. Я знаю, что в итоге мне придется с ними расстаться — хотя бы с одеждой, — что где-то есть человек, который не может позволить себе пуховое пальто, чья жизнь благодаря ему может стать более сносной, а вероятно, даже окажется спасена. Я воображаю женщину или девушку, нелегальную иммигрантку, в каком-нибудь жутком ледяном месте — на мясокомбинате в одном из городков Висконсина, или в чикагской съемной квартире без отопления. Но я не был готов расстаться ни с чем. С собой я это даже не собирался всерьез обсуждать, зато с некоторыми ее друзьями приходилось. Сначала им не давала покоя идея, что ради своего же блага я должен избавиться от части ее вещей. Никто и не говорил, что нужно выкинуть все. Почему бы не делать это постепенно, для начала пожертвовать ее теплые вещи городской службе по сбору зимней одежды?