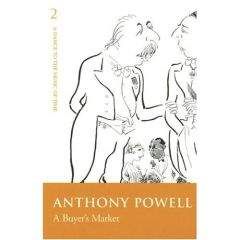Снова включается автоответчик, и мужской голос, записанный на фоне звуков Синатры, говорит: «Меня нет дома, но если вы оставите свое имя и номер телефона…»
Виолет начала было говорить, потом замолчала. Вместо этого, она поворачивает трубку в сторону Сотутских Гор, чтобы записать для Шейна крики орлов, которые кружатся над покрытыми снеговыми шапками пиками, и лимонный свет солнца перед закатом и то, что она чувствует всего за несколько минут до того, как даст брачную клятву. А что она чувствует, на самом деле? Она не может точно сказать, но какая‑то ее часть подсказывает, что нужно найти какой‑то смысл в том, что Шейна нет дома и он не сможет ее утешить, и что ее что‑то подтолкнуло к правильному решению, несмотря на тайные жизни, которые вели она и Луис. Вешая трубку, она ощутила приступ клаустрофобии, как будто горы и небо давят ее, превращая огромное пространство возможностей стремительную, четкую траекторию ее жизни.
Фото 25. Джун плачет за конюшней и ковыряет дыру в земле каблуком своего серебряного босоножка.
Когда дыра уже достаточна глубока, она кладет в нее обрывки фотографии, потом подошвой босоножка засыпает ее землей. Она утаптывает землю. Топ, топ, топ. В детстве она брала уроки танцев, и сейчас вспоминает шаги: раз–два–три, раз–два–три, топ–топ–топ, топ–топ–топ.
Положив руки на бедра, она танцевальными шагами двигается к входу в конюшню, но останавливается, увидев там Луиса, который стоит, прислонившегося к стене. Он жестом подзывает ее к себе, кладет ей руки на плечи и поворачивает лицом к стене конюшни, прижавшись к ее спине. Сквозь большую дырку в стене они смотрят на мужчину в ковбойской шляпе и со спущенными джинсами, который грязной рукой поглаживает свой чудовищных размеров член. Он стоит над молодой обнаженной девушкой, лежащей на подстилке для лошадей, на загорелых ногах ее — шлепанцы. Он смотри на нее широкими и пустыми глазами, такими же, как у лошади.
Джун чувствует, что у Луиса, прижавшегося к ее газовому платью, начинается эрекция. Он сильно сжимает ее, как подушку или одеяло или что угодно, за что можно взяться, и начинает беззвучно плакать.
Фото 26. Луис с безумным видом находит возле камина сумку Джун.
Ему уже пора идти в часовню, расположенную в чистом поле позади усадьбы. Он слышит, как «Свадебный марш» Мендельсона звучит над сухой травой. Неожиданно он сует руку в карман своего пиджака. Никто не видит, как он кладет конверт, наполненный фотографиями в забытую Джун сумку. Никто не видит, какое облегчение он после этого испытывает, — как будто похоронил родственника, который долго и тяжело болел.
Фото 27. Виолет поправляет подвязку, спрятавшись за грубой дверью часовни.
Она видит, как стоящий у алтаря Луис с удивлением наблюдает за ней, как если бы она была статуей, только что сошедшей с пьедестала. Он смотрит на нее, и ей достаточно одного взгляда, чтобы понять, что он знает, что она знает. Ее пробивает дрожь. Виолет входит в часовню.
Фото 28. Хоуп выходит из конюшни, застегивая свой новый широкий ремень.
Она нюхает у себя под мышкой, потому что именно там человек пахнет сексом. Но ей удается учуять только запах лошадиного дерьма и сена. Она колеблется между чувством победы и потери, между ощущением, что она нашла в себе что‑то такое, о существовании чего и не подозревала раньше, и чувством, что она что‑то потеряла навсегда. Во время всего пути по дороге, длиной в милю ей ни разу не приходит в голову, что она только что испытала и то и другое, и это — одно и то же.
Фото 29. Фата Виолет валяется на дороге.
Фургон, оборудованный под полевую кухню, везет молодоженов, а гости идут от часовни к усадьбе пешком. Фата Виолет цепляется за изгородь и тянет за собой искусственную белую косичку, которая теперь лежит в колее, как свернувшаяся спящая змея.
Фото 30. Джун сидит в фургоне, только что избавившемся от своего свадебного груза.
В руке она держит что‑то, напоминающее кусок спасательной веревки. Джун занята тем, что расплетает ее своими горячими пальцами. (Она никого не может спасти, а ее уж точно). Вдруг — без помощи какой‑либо отражающей поверхности — она очень четко видит себя со стороны, видит всю абсурдность этой картины: она плачет в фургоне полевой кухни, теребя пальцами клок искусственных волос, ногти выкрашены глубоким, грустным красным лаком, который она выбрала из‑за его названия — «Другая женщина» — и, впервые за долгое время, Джун смеется над собой.
Фото 31. Бабушка Роза крепко спит во время свадебного ужина.
На заднем плане гости прыгают и крутятся, танцуя на паркетном полу. Дедушка Джо снял пиджак и набросил ей на плечи, а сам пошел подогнать машину. Он представляет себе, как вечером почитает или, может быть, один поиграет в криббидж[5]на кухне, делая ход сначала за себя, потом за Розу, пытаясь при этом забыть, какие у него карты всякий раз, пересаживаясь с одного стула на другой. Но, может быть, он просто выключит свет и максимально приблизится ко сну, переключая телевизор с канала погоды на ток–шоу, наслаждаясь тем, что совершенно один в мире и заботливо держа руку на бедре своей спящей жены.
Фото 32. Луис и Виолет соединяют ладони, чтобы вместе разрезать торт.
Оба замечают что нож, разрезав глазировку наткнулся на что‑то странное и продирается через него, как гребная шлюпка через водоросли.
Фото 33. Джун закатывает свое праздничное платье до бедер.
Она ныряет — теперь с легкостью — в океан выгоревше–желтых холмов позади усадьбы. Каблуки ее босоножек проваливаются в змеиные норы. Она сбрасывает босоножки и швыряет их в низкорослый кустарник, вспугивая двух фазанов. Она лезет в сумку за заколкой, но вместо нее находит три неизвестных фотографии.
На первом снимке — пожилой мужчина, отдаленно напоминающий Луиса, обнимает женщину в меховой накидке, которая по возрасту годится ему в дочери. Вторая фотография — черно–белый портрет молодоженов («Я понял это в тот самый момент, когда увидел ее»). Третья — фотография молодой девушки в красном платье на карнавале. Бессмысленные фрагменты чьих‑то жизней, ничего не имеющие общего с ее собственной. Джун бросает фотографии в воздух и наблюдает, как ветер подхватывает их, и они, словно птицы, улетают в сторону оврага.
Ее воздушная фигурка становится все меньше и меньше, пока вообще не исчезает в заходящем солнце. Звуки оркестра уже едва доносятся до нее, когда она слышит удар барабана, возвещающий, что пора резать торт.
Фото 34. Луис и Виолет удивленно жуют.
Луис подносит руку ко рту, как будто для того, чтобы достать длинный светлый волос, случайно оброненный Виолеттой на его тарелку. Он сразу же узнает почерк на тонком обрывке голубой бумаги. «…никто в мире не имел для меня значения, только ты, Джун…»
Фото 35. Луис засовывает руку в середину свадебного торта и достает оттуда горсть начинки, перемешанной с обрывками голубой бумаги, которые похожи на червяков, присосавшихся к собачьему сердцу.
Первое его желание — засунуть этот чертов торт, весь, до последнего куска, набитого обрывками бумаги, в маленькое мстительное горло Джун, чтобы она задохнулась.
Проведя взглядом по толпе гостей, Луис с тревогой замечает, что никого из них не узнает, как будто по ошибке оказался в роли жениха на чужой свадьбе. Странным образом, он не узнает и женщину, стоящую рядом, вместе с которой он сжимает рукоятку ножа.
Они избегают смотреть друг другу в глаза, как двое чужих друг другу людей, оказавшихся за одним столиком в кафе. Гости ощущают их неловкость и начинают шевелиться и двигаться и гудеть.
Вдруг эта женщина (как видно, теперь его жена) подносит его руку — перемазанную кремом, с налипшими кусочками торта и полосками голубой бумаги — к своим губам. Она засовывает его кулак себе в рот, и он ощущает ее острые зубы на своих костяшках. Она бешено поедает то, что налипло к его кулаку — торт, глазировку, бумагу.
Сначала он в ужасе. Потом вдруг чувствует сильнейшее желание поцеловать ее. Он это и делает, ощутив смешанный вкус торта и крема и губной помады и крови из своей прокушенной руки, в то время, как чужая толпа непристойно подбадривает их. Он вдруг осознает, что едва знает женщину, с которой теперь делит фамилию, постель, жизнь. В то же время, он понимает, что она знает и любит его как раз за то, что он всегда был непознаваем. Хотя Луис до конца не уверен, ему кажется, что он словно завершает таинство, которое управляло его родителями, его дедами и прадедами, и их любовью, столь же предрешенной, сколь и случайной. После того, как он всю жизнь шпионил за другими, Луис теперь ощущает себя человеком, погруженным в себя, который уже без былого смущения смотрит на окружающий мир.