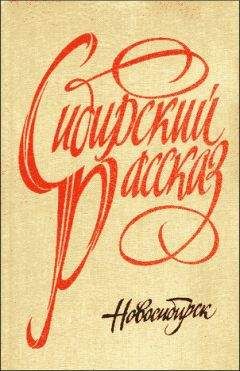Он пробормотал что-то похожее на «здрасьте» и попятился, а девчонка, глядя на него с улыбкой удивления, спросила:
— Зачем вы встали? Вам нельзя.
— Еще чего! — грубо бросил Митя уже с порога и исчез в комнате.
Минуты через три он, громыхая сапогами, вышел в прихожую и снова столкнулся с девчонкой. Она стояла в дверях, держа у груди книжку с заложенным между страниц пальцем, ждала его.
Мите показалось неловким пройти молча, он спросил:
— А где Петр Игнатьевич?
— На митинге он, — сказала девчонка. — Все туда ушли.
— На каком митинге?
— На праздничном. А куда вы так срочно собрались?
— Черт, — сказал Митя в сердцах, — праздник же, в самом деле. Долго у вас тут митингуют?
— Когда как. Сегодня погода хорошая, может, и долго.
— А ты что же?
— Мне поручили возле больного сидеть.
— Это я, что ли, больной? Спасибо, но я здоров... Значит, трактора в поселке мне сегодня не раздобыть, — подытожил Митя и стал искать на вешалке свою шапку, но тут же вспомнил, что утопил ее в овраге.
Девчонка неожиданно засмеялась:
— Не раздобыть, конечно. А зачем вам?
Митя хотел объяснить ей, что надо вытащить из оврага тягач, но вдруг обиделся: раз она живет здесь, значит, наверняка знает все, рассказали небось, чего же смеяться.
— Ладно, — бросил он хмуро и пошел во двор.
Утро было свежее, солнечное, от сырых мостков шел пар. В голых ветвях ранета, вдоль забора, шумно, скандально возилась какая-то пернатая мелочь.
Он почувствовал головокружение, присел на ступеньку. Откуда-то издалека доносились звуки духового оркестра. Бодрые, маршевые мелодии окончательно расстроили Митю. Он изо всех сил зажмурился. Даже птичья веселая возня на ранете действовала на него угнетающе.
Он поднял глаза, и сквозь сетку еще голых, без листвы, ветвей увидел возвышающийся над забором зеленовато-округлый верх кабины и приподнятый овал люка над ней. Эта страшно знакомая деталь настолько поразила его, что он еще несколько мгновений сидел, весь оцепенев, боясь ошибиться.
Он выбежал через калитку на улицу и увидел свою атээску!
Машина стояла почти вплотную к забору, выглядела она настолько непривычно для Мити, что он в какой-то момент даже усомнился: его ли атээска?
Вид ее был до позорного жалок. Все пространство между катками и сами катки были забиты, залеплены илом, измочаленными прутьями, густой и уже слегка подсохшей грязью. Грязь липла вершковым слоем на прежде зеленых крыльях, по выступам бортов. В решетках моторных выхлопов торчала древесная щепа. Повсюду висели клочья грязной травы, соломы. Стекла кабины точно затянуты серым холстом, лишь в левом стекле поблескивал относительно чистый квадратик, протертый кем-то наспех при буксировке.
Он поднял щепочку и поскреб габаритные фонари: правые стеклышки разбиты. Однако все остальное как будто в порядке, даже фары не пострадали — спасли крепкие оградительные сетки.
Митя сел поодаль на камушек, крепко охватил руками колени, задумался. Время от времени он взглядывал на машину: картина была настолько безрадостной, что он тут же отводил глаза.
В детские Митины года жил у них кот сибирской породы, сплошной ком шерсти. Он был царственно красив. Однажды мама выкупала его, он вылез из тазика — этакое тощее, обсосанное существо, похожее на крысу, только усы на скуластой морде топорщились, как у таракана, жалко было смотреть. Сейчас стоявшая под забором машина напоминала Мите того выкупанного кота.
Звуки оркестра вскоре умолкли, по улице со стороны центра потянулись группами и в одиночку празднично одетые люди.
— Ну силен! — сказал Петр Игнатьевич, оглядывая вставшего перед ним с камушка Митю. — Вчера еще над ним медицина охала, а сегодня он как огурчик. Вот что значит молодость! — Он был в штатском костюме, пестрой кепке, сидевшей не очень ладно, гладко выбрит. На отвороте пиджака алел первомайский бант.
— Спасибо, Петр Игнатьевич, — проговорил Митя. — Если бы меня не скрутило, я бы сам...
— Это не мне спасибо, а вот им, моим братьям-разбойннкам, Димке и Сашке, я только ценные указания давал. — Он кивнул на парней, свернувших с дороги к дому и подходивших к ним. Один — высокий и худощавый, и мятой шляпе, а другой — помоложе — в спортивной куртке, совсем не похожие друг на друга.
— Я рассчитаюсь, — торопливо сказал Митя.
— Ого, а ты в самом деле силен. Наличными?
— Только не сейчас, сейчас у меня нету, — пробормотал Митя насупившись, уже чувствуя в словах Петра Игнатьевича подвох.
Подошли братья, поздоровались, с откровенным интересом посмотрели на Митю.
— Слышь-ка, — сказал им Петр Игнатьевич, кивнув на машину. — Парень обещает рассчитаться наличными.
Братья рассмеялись. Дима, деловито морща лоб, спросил:
— А ноль пять, которую я нашел в тягаче и пустил на сугрев, он с меня как, высчитает?
Митя вспомнил; у него действительно была в кабине бутылка, купленная в городе к празднику.
— Ладно, мужики, — сказал он им. — Чего уж там, 6росьте, я ведь хотел по уму.
В доме готовился праздничный обед. Анна Прокофьевна, Танюшка, жена Димы Тамара накрывали на стол — в в той самой большой комнате, в которой на диванчике спал Митя. Но сейчас постель была убрана, диванчик придвинут к столу, и солнце, щедро лившееся в чисто протертые окна, искрилось в посудном стекле, дрожало золотыми пятнами по стене и по коврику с ужасно драматичным сюжетом про волков, так развеселившим Митю сегодня утром.
Братовья, все трое, собравшись в боковой Сашиной комнатке, сразу завели технический спор — о преимуществах «Москвича» и «ВАЗа».
— «ВАЗ» — машина, конечно, толковая, — горячился Дима. — Вся комфортными цацками обвешана, плюс экономичность, плюс чего там еще? Аха! Но не для наших дорог!
— Машина не виновата, что у нас такие дороги, — сказал Петр.
— Аха! А я виноват? Скажи — виноват? Дайте мне на «Москвича» вазовский карбюратор, и я всех вас буду спокойненько делать. — Он сунул в рот сигарету, похлопал обеими руками по карманам в поисках спичек, не нашел, вынул вновь сигарету, добавил; — Причем спокойненько!
Митя сидел в сторонке, зажав между коленей сомкнутые ладони, делал вид, что с интересом слушает, а мысли его были заняты своим. Аккумуляторы посажены — ладно, не смертельно. Заведу от воздушной системы. Но в двигатель наверняка насосало воды, значит, масло придется сливать. А где тут его достанешь, мне ведь авиационное надо. В ихнем леспромхозе разве найдешь авиационное? А дерьма мне даром не надо — двигатель гробить...
— Сашка! — Дима теперь кричал, положив тяжело руку на сидящего рядом с ним на краешке кровати брата. — А ну покажи кой-кому свой тайный плод любви несчастной. Пускай кой-кто из городских поглядит и убедится: мы тоже тут не лаптем щи хлебаем!
— Да нечего там еще смотреть! — отвечал Саша, слабо уклоняясь от навязчивых братовых объятий. — Одна рама, считай, на колесах, больше ничего.
— Неправда, не ври, не завирайся, вся ходовая часть готова, двигатель.
— Ну — еще ходовая, — соглашался Саша.
— А вот ГАИ тебя все равно не зарегистрирует — голову на отруб кладу, аха! Вот она, ГАИ, сидит рядом, спроси ее в упор. — Дима тыкал согнутым пальцем в сторону Петра Игнатьевича: — Спроси, спроси, воспользуйся ее редким присутствием.
— Да ладно тебе, Димк! — слабо отбивался Саша, — Не зарегистрирует — и не надо, подумаешь, беда какая.
— Нет, вы глядите на этого чалдона — не надо! Не беда! Полгода из сараюшки не вылезает, весь наш автобазовский скрап растащил, по металлолому плана не выполняем! Денег от него мать не видит — все на запчасти ухайдакивает — и не надо! Не желаем! Мы такие! Ну жук на палочке!
— Ты погоди, не шуми, перепонки болят, — осаживал его старший, Петр Игнатьевич. — Почему не зарегистрируют? Если все будет в технических нормах...
— Аха! Нормах! Он такое замастырил, башка белобрысая, что у вас и норм-то не придумали.
— Что же именно?
— Сашка, пошли!
— Да потом, — отбивался Саша, хотя, судя по всему, ему было лестно оказанное внимание. — Пообедаем вот...
«Первое, значит, масло, — продолжал под этот галдеж свою томительную думу Митя. — Отсюда до базы партии четырнадцать кэмэ по спидометру. Выпросить бы у леспромхозовских коня да сгонять, часа за три обернуться можно. А к кому сейчас сунешься, все небось гудят, дым коромыслом...»
— Это ты верно, золотые слова: надо сперва пообедать, а то не тот эффект получится. Мама! — Дима резво встал, высунул в двери свою тоскующую физиономию. — Массы извелись в ожидании, скоро под знамена призовете?
— Вот ерихонская труба, — откликнулась из большой комнаты Анна Прокофьевна. — Ну бес, ну бес... Давайте, мужики, можно рассаживаться.
Праздничное застолье в доме Шварченковых, на которое Митя попал совершенно случайно, понравилось ему прежде всего атмосферой доброжелательности и искреннего, какого-то веселого уважения членов этой большой семьи друг к другу. Петр Игнатьевич, в светлой, без галстука, полотняной рубашке, обтянувшей его крутые, тяжелые плечи, восседал во главе, выполняя роль старейшины стола. На остроумные, необидные подначки, на незлое вышучивание чьих-то слабостей и промахов он первый откликался густым, заражающим ах-ха-ха, от которого звенело в серванте стекло. Он и сам блеснул юмором, рассказав в смешных деталях, в большинстве придуманных или преувеличенных, как они с Митей курнулись в Кривом овраге, как выскакивали через аварийный люк и как Митя впопыхах искал шапку.