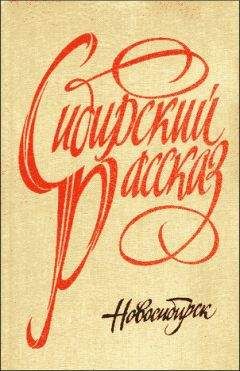— И давно?
— Да в ночную, гадский род, прихватило. Не заметили как! Мы тут две бочки связали, Жупиков на них выгребся, в Глушинку ушел. А мы вот загорать остались. Правда, Петрович загара не любит, говорит: чё им делать...
— Мы только что оттуда, — сказал Митя. — Никто не попался.
— Он, видать, прямой тропой пошел.
— Никого он там сегодня не найдет, гудят все.
— Да мы уже поняли! А ты чё на какой-то колымаге? Я же говорю Петровичу — это Митя-танкист, а он: ну да, такой техники у нас сроду не было!
— Я под леспромхозом в овраг курнулся, вот масло везу.
— Да ты чё?! Утоп, что ли?.. У нас только на тебя и надёжа была. Мы тут с Петровичем рассуждаем: если Митя с главбазы вернулся, то порядок, а так... Эх!..
Сергей расстроенно прошелся по крыше тепляка, опустился на корточки возле молчаливо сидевшего Петровича, они о чем-то заговорили.
— Эй! — крикнул Митя. — Сколько тут можете продержаться?
— Да мы-то хоть сколь! Как космонавты! Спальники, гадский род, только подмокли, ночью дуба дадим. А вот если станок зальет и дизель в станции — тогда его так, так и перетак!
— Ты чего лаешься? — упрекнул его Митя. — Не видишь — девушка.
— А... — махнул в сердцах парень, — у всех праздник, а тут...
— Петрович! — обратился Митя к сменному мастеру, сгорбленно и как-то безучастно сидевшему на краю крыши. — Сильно прибывает? Часа два-три продержитесь, не зальет?
Петрович, в шапке-ушанке и брезентовой мешковатой куртке, всем корпусом наклонился вниз, внимательно посмотрел на воду, будто первый раз ее видел, что-то сказал Сергею. Сергей прокричал, как бы перевел ответ:
— Прибывает дай боже! До вечера, может, и не зальет, а за ночь — уж верняк...
— Ладно! — сказал Митя и повернулся уходить.
— Чего? Чего? — парень обеспокоенно затанцевал на крыше. — Чего ты, танкист? Не понял!
— Держитесь, говорю. Если хорошо заведусь, часа через два-три буду.
— Да ты постарайся, понял! Постарайся! У Петровича-то есть за что держаться, он с утра за свой хондроз держится, а мне-то!
— А ты за Петровича!
— Я бы за твою девушку подержался, — засмеялся тот. — Слышь, Митя!
— Трепло!.. Пошли, Тань. — Он потянул ее за локоть. Танюшка шла и беспокойно оглядывалась, как бы спрашивая: а они не потонут?
— Девушку-то оставь — в залог! — заскулил Сергей и изобразил несколько дикарских, страстных прыжков.
— Перебьешься! Штаны хоть посуши к вечеру!
Пока Митя, разведя на полянке возле тягача костерок, подогревал в ведре масло, заливал в картер, в систему смазки, наспех отскребал двигатель от ила, Танюшка, переодевшись в какие-то старые одежки — кофту, брюки, — приводила в порядок кабину. Протерла стекла, приборную доску, сиденья, вытащила и вымыла подстилочный коврик. Поднимая глаза от двигателя, Митя видел, как деловито покачивается за окнами кабины плафончик ее волос; губы его трогала улыбка снисходительной благодарности. Нельзя было сделать Мите более приятного и более расположить его к себе, как оказать внимание его тягачу, его «танку». Особенно сейчас, когда машина беспомощна, по самую макушку закамуфлирована серым холстом подсохшей грязи.
Ничего! Только бы двигатель схватился! А там поглядим! Кривому оврагу больше не бывать, это уж точно.
Оставшись последние двое суток без машины, в чужом поселке, где его никто не знает, Митя ощутил вдруг свою как бы неполноценность. Он многое пережил и перечувствовал. Особенно в ту ночь, в овраге, когда он едва не околел. Кошмарная, унизительная ночь! В краю здешнего сурового бездорожья он привык чувствовать себя хозяином положения. Это чувство дарила ему машина. Даже бывалые, вечно хмурые шоферы-дальнерейсовики, встретившись в пути, высовывали руку, открывали в сдержанном приветствии ладонь, и все звали его просто Митя. Он понимал: уважением к себе он также обязан ей, своей атээске, ее умной мощи и всепроходимости. Но ведь правда и то, что его предшественник, которого он сменил на водительском месте, был однажды вытащен из кабины и натурально побит, когда проехал мимо застрявшей в распадке колонны, оправдываясь тем, что от перегруза у него «разувается» гусеница. Побив шофера, нашли в его инструментальном ящике стяжной ключ, подтянули гусеницу и заставили-таки выдернуть себя из распадка.
Так что машина машиной, а человек человеком...
Наконец Митя, вымыв соляром руки и насухо вытерев их, влез в кабину, стал готовить двигатель к запуску. Танюшка сидела тут же, с интересом глядя, как он трогает рычаги, щелкает тумблерами, деловито крутит какой-то вентиль. Движения при этом несуетливые, уверенные, не то что давеча с вожжами!
— Ну! — сказал он, весело и тревожно взглянув на Танюшку. — Господи, родимая атээсочка, не помни грехи наши!.. Ты ведь, Тань, счастливая, мы с тобой это, кажется, установили (та молча улыбнулась). Видишь вот эту ручку? Это кран-редуктор. Возьмись за нее и быстро открой. Ну, смелее!
Танюшка, тоже почувствовав волнение и важность наступившего момента, осторожно взялась за прохладную, гладкую рукоятку внизу кабины и, зажмурившись, не зная, что же должно за этим последовать, потянула к себе.
В двигателе, в его таинственной утробе, что-то тяжело, натужно крякнуло и провернулось, потом еще раз и еще. Танюшка тревожно поглядела на Митю. Лицо его было напряжено.
Тогда она, закусив губу, потянула изо всех сил.
Дизель заурчал громче, с подвывом, в нем что-то стрельнуло, кабина мелко затряслась — и вот уже ровный, громыхающий гул объял всю машину и запахло выхлопными газами.
— Закрывай! — ликующе крикнул Митя, смеясь, схватил Танюшкину руку, и они общим усилием водворили кран на место: — Я же говорю — счастливая!
Танюшка, сияя глазами, будто и в самом деле двигатель завелся благодаря ее легкой руке, подпрыгнула на пружинах, сказала:
— А можно я с тобой съезжу? Сережку бесштанного помогу спасти!
— Поехали! Чего там! Спасем! — великодушно сказал Митя. — Вот только аккумуляторы подзарядим!
Двигатель рокотал на холостых повышенных оборотах, и Митя, откинувшись п разбросив по спинке сиденья руки, слушал его мощный и спокойный, мужественный рокот, как самую прекрасную и волнующую музыку; как голос прощения своей вины, которая тихо мучила его два этих долгих праздничных дня.
Потом он перевел взгляд на Танюшку. Она сидела рядом, в своей старой трикотажной кофте, в штанах, кончиками пальцев плавно водила по стеклышкам приборов. Она точно гладила их. У Мити было ощущение — это Танюшка гладит его самого. Когда она отклонялась к спинке сиденья, пышный плафончик ее волос прикасался к его вытянутой руке. Волосы были мягки и упруги.
Он спросил:
— Таня, а сколько Тамаре лет?
Она удивленно обернулась, брови ее прыгнули.
— Двадцать пять. А тебе сколько надо?
— Мне-то? Все! — засмеялся Митя и стал смотреть на нее очень внимательно. Ему почему-то пришла на память пушкинская строчка: «И полно, Таня! В эти лета...» Под обвисшим воротом ее кофты блеснула серебряная ниточка — будто лучик зажегся.
— Слушай, я все хочу спросить: что это за камень ты носишь на шее? Амулет какой, что ли? — Он, шутливо полуобняв ее, поддел пальцем нитку, легко дернул. Камушек выскочил из-под ворота, заболтался поверх кофты.
У Танюшки меж бровей обозначилась складочка, она слегка отклонилась, возвращая камешек на место, и он впервые увидел, как на ее лице гаснет улыбка.
— Это не камень, — сказала она. — Это папин последний осколок.
Митина рука замерла, потом медленно опустилась на сиденье.
— Прости...
Гудел двигатель. Стрелка амперметра нетерпеливо подрагивала. Ожившие приборы помаргивали светом, вентилятор отопительной системы погнал в кабину тепло. На шум дизеля вышел из дому Петр Игнатьевич, стоял возле калитки, курил, покашливал, смотрел на притихших в кабине Митю и Танюшку. Потом появилась Тамара в своем сверкающем, праздничном платье, упругой плавной походкой подошла, остановилась, кокетливо постучала согнутым пальцем по кабине.
— Можно мне с вами посидеть?
Танюшка, не открывая дверцы, приспустила стекло, высунулась, быстро сказала:
— Тамарочка, ты такая нарядная, а тут грязно-прегрязно, тут можно только в рабочем... — И засмеялась чему-то.