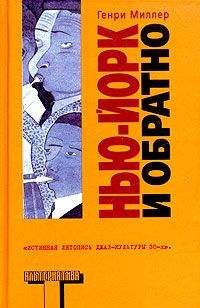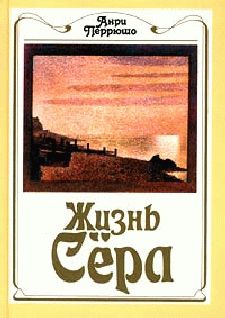Чуть поодаль находится «Уголок поэта», провинциальное заведение сомнительной репутации, в котором собираются коммунисты-рифмоплеты – посидеть, пожевать сала над чашкой бледненького кофе с жирными пятнами. Вот где создаются лучшие опусы Америки. Немного дальше, на улице, их продают по десять центов за штуку. Оригиналы, нацарапанные графитовым карандашом на плохой бумаге, удобно расклеены тут же на заборе (угол площади Вашингтона и Томпсон-стрит); нередко автор царапает внизу собственное имя, пока вы читаете.
– Купите стихи! – бодро призывает он. – Всего десять центов!
Конечно, в такой ливень торговлю прикрывают. Тогда тебе лучше завернуть в сам «Уголок поэта» – в подвал бывшего постоянного места сборищ «злой молодежи» Джун Мэнсфилдnote 18 на Третьей улице. Художникам, надо сказать, живется проще. Эти выручают по тридцать пять, пятьдесят, а то и семьдесят центов за полотно. Дождь в их бизнесе – не помеха, ибо, как известно, масло и вода не смешиваются.
Погоди, уж не решил ли ты, что я попусту треплю языком? Хочешь поинтересоваться, почему же тогда столь высокие гонорары в «Эсквайре» или «Вэнити Фейр»? Спрашивай, не стесняйся. И я отвечу: туда не попасть ни одному из доморощенных стихотворцев. Подобные журналы существуют исключительно для избранных вроде Хемингуэя или Джо Шрэнкаnote 19. Что меня всегда восхищало, так это хитросплетенная сеть дочерних органов печати типа «Харпер», «Вог», «Атлантик Мансли» и прочая, и прочая. Да, так к чему я собирался подвести тебя при помощи столь подробной преамбулы? К вопросу отношения к змеям, ни много ни мало. Видишь ли, в детстве О'Реган был заклинателем змей. В те годы он жил со стариком по имени Монкуре где-то в штате Виргиния. Приятель поведал мне об этом, когда мы сидели в салуне Макэлроя на Тридцать Пятой улице – ближе к вечеру здесь можно потанцевать с красивейшими девчонками, каких только поставила нам Ирландия. Через дорогу от салуна располагается Национальный еврейский ресторан, там тебе покажут увеличенный снимок, сделанный во время обеда, устроенного Лу Зигелем для товарищей по искусству – Эдди Кантораnote 20, Джорджа Джесселаnote 21, Эла Джолсона и других признанных деятелей от музыки еврейского происхождения. К твоему сведению, прямо напротив находится бар Олкотта, увековеченный мною в главе «Мастерская мужского платья»note 22 в память о моем папаше и его покойных стариканах – Корзе Пей-тоне, Томе Огдене, Чаке Мортоне и сотоварищи. Только представь, идешь ты мимо бара Олкотта, скользишь взором по Еврейскому Националю, а там увеличенный Эдди Кантор строит рожицы Джорджу Джесселу – аж мороз по коже! Сменилось всего лишь одно поколение, а что осталось от старой доброй Тридцать Второй?..
Ну да ладно, сидели мы с Джо, беседовали о морских гребешках, пустыми раковинами которых был усеян мой письменный стол накануне, когда мы находились в особенно угнетенном расположении духа, ибо вечер пришлось коротать, наблюдая за танцами в «Кэррол клубе» через дорогу от дома. Милое местечко для бедных работающих девиц. Каждую субботу модно одетые молодые люди с Вест-Энд-авеню и Бронкса подкатывают сюда на блестящих лимузинах и тискают барышень, а мы смотрим на них с высоты двадцать третьего этажа, из окон тесной комнатушки. Нищета в Нью-Йорке грандиозна, как и все прочее. За ужасающей нуждой стоят надежды и отвага стодвадцатимиллионой армии слабоумных пижонов, отмеченных двуглавым орлом N.R.A.note 23, а что за ними? Умная Машина Конроя, позволяющая без проблем перекокать и захоронить алкогольную тару. А еще глубже? Краснокожий индеец, до такой степени ограбленный и оплеванный, что нынче его тошнит от громадных особняков, нефтяных скважин и притязаний на «белое» обхождение с собственной персоной.
Дождь. Мы с Джо стоим у сигарного магазина Велана, что у вокзала на пересечении Тридцать Третьей улицы, Шестой авеню и Бродвея. Прохожие пялятся на нас, мы глазеем на них. Под эстакадой жмется диковинный тип – стройный парнишка в рубашке из голубого шелка и рабочих штанах из грубой бумажной ткани; шея обвязана красной банданой, на репе – громадное сомбреро, естественно, лихо сдвинутое набок. Судя по всему, он ожидал поезда. Имея семьдесят пять центов на двоих, мы долго сомневались, заводить разговор с юным ковбоем или нет. Наконец подозвали парня свистом. Чудик приблизился с довольно перепуганным и обеспокоенным видом, объяснил нам, что проспал нужный поезд и только-только прикатил из Холиуока, штат Массачусетс. Сам он, мол, из цирка, дрессирует шпицев или что-то вроде того. У молодого человека были даже большие железные шпоры, кои он извлек из кармана и с гордостью показал нам. Колесики, правда, затупились, однако парень заверил, что их очень легко наточить, а потом спросил, как найти Центральный вокзал, где должна располагаться служба помощи горе-путешественникам. И еще добавил, что Нью-Йорк – самый большой город из всех, которые он видел (причем я понял: ковбой твердо уверен, что в мире подобного добра навалом).
– Ну и как тебе здесь? – полюбопытствовали мы.
Циркач ответил, что провел в Нью-Йорке всего лишь полчаса и попросту мечтает отсюда выбраться. Отвели мы его в отель «Миллс», заплатили за ночлег и растолковали, куда следует завтра отправиться.
Уже покидая гостиницу, я вдруг осознал: это же самое интересное событие, приключившееся со мной со дня приезда. Здоровый, открытый парень, обаятельный собеседник – а вернее, бессловесная скотинка, отбившаяся от своей овчарни. Помню, как мы разглядывали его шляпу, в которую вошло бы десять галлонов виски, переворачивали ее, ощупывали, взвешивали в руках, сгибали, примеряли, изучали этикетку, интересовались ценой и все в таком роде. В наших глазах девятнадцатилетний ковбой и его головной убор стоили много дороже угрюмого, напористого, тщеславного Нью-Йорка и всего, что он воплощал в себе, вместе с упаковкой и ленточкой. Парнишка был одним из нас: бродил в сильный ливень, выписывал зигзаги под эстакадой, уворачиваясь от резвых таксистов; помню его голубую рубашку, распахнутую на груди, блестящие мокрые волосы, ладную фигуру, стальные мускулы, глаза оленя, мозолистые ладони, синие штаны с карманами, скроенными по косой линии. Убей меня гром, если я не завидовал этому юноше! Он возвращался в Теннеси, на ферму, и должен был навсегда забыть о цирке. Скорее всего поутру бродяги выудят у него последние гроши, и бедолага снова будет стоять под мостом, беспомощно высматривая нужный поезд. Звали парня Селф, Уилл Селф. Превосходное американское имяnote 24, и славно звучит на любом языке. Чем-то напоминает «Единственный и его достояние»note 25, напыщенную и претенциозную анархическую книгу, прочитанную в те дни, когда я тоже изо всех сил пытался стать ковбоем – и стал бы, если б не клопы.
Так вот, сидели мы в салуне Макэлроя, и Джо пустился в воспоминания о Майами, о великом торнадо не то двадцать седьмого, не то двадцать восьмого года, сразу после бума, о девице, с которой развлекался тогда на пляже под перевернутой шлюпкой. Не успел он взгромоздиться на подружку верхом, как налетели майамские кровососы (вроде москитов, но гораздо крупнее) и давай жалить его в зад. Тут приятель перескочил на рассказ о живописных восходах солнца в Ки-Уэст, о громадных облаках, похожих на воздушные шары, или на Буффало Билла или на Сидящего Быкаnote 26, и все в таких безумных, яростных красках… Самым прихотливым образом в его речь вплетались арки Санкт-Петербурга, дом престарелых, тучи жалящих москитов, гольф на девятнадцать лунок, чистые родники, бьющие из-под земли, лодки со стеклянным дном, ручные рыбки, что приплывают поесть крошек у тебя с ладони, река Сент-Джонс, единственная в США, которая течет с юга на север, а значит, снизу вверх… Отсюда и Понсе де Леонnote 27…
Вот и Джо, примкнув к некоему карнавальному шествию, двинулся на север, к Мэдисон-скуэр-гарден. Там-то старый Монкуре и поведал ему про змей. Приятель заявляет, а я лишь повторяю его слова, что, так как ползучих гадов с незапамятных времен преследовали и гнали, теперь им довольно капли нежности, чтобы всей душой привязаться к человеку. Трюк Джо заключался в следующем: змея проползала по его левому рукаву, затем по спине и спускалась через правый рукав, после чего получала награду в виде сырого яйца. Я спросил, как же заклинатели поступают со скорлупой. Оставляют нетронутой, ответил товарищ. И все-таки гад всегда распознает, свежим яйцом его потчуют или нет. Тухлятину ему не подсунешь. Очень уж они чистоплотные, змеи. Нипочем не станут есть разную дрянь, как варвары-китайцы. Нетушки. Время от времени, если чрезмерно изголодается, ползучая тварь требует мяса. В этом случае нужно подсадить к ней змею помоложе – «кадета». (Крыса не годится: она может и сама прикончить хищника.) Дождавшись, когда челюсти большой гадины плотно сомкнутся на шее жертвы, Джо будто бы зажимал их, вытаскивал здоровенный складной нож, делал сплошной надрез вокруг захваченной в плен головы и стягивал с маленькой змеи кожу. Потчуя ползучего питомца, следует обхватывать сырое яйцо всеми пальцами – этот жест помогает гадюке сблизиться с тобой, или тебе с ней. Заглотив угощение, она выплевывает скорлупу, вот что самое поразительное в этой истории. Представляешь, каково слопать яйцо целиком, раздавить, переварить и после извергнуть из чрева белые осколки! Нет уж, если бы я когда-нибудь искренне пожелал сблизиться со змеей, то из дружеских побуждений чистил бы яйца сам. Или хотя бы отваривал. Привязанность ведь и держится на трогательных мелочах, верно? Особенно если учесть, что немой гад не в состоянии отблагодарить вас, разве только повращать глазами…