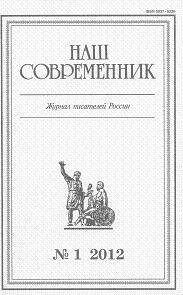В избе ещё не белили, от дождливых сумерек совсем было серо и уныло, от чердачного снега ржавчина протекла на потолке. А за окошком, в котором уже была вынута четвертинка, пошло шевеленье. Парни, давая газу, прогнали на мотоциклах, надсадно стрелявших без глушаков, сзади голоушие девки подпрыгивали на седушках, обтянутых собачьими шкурами. Школьницы с пластмассовыми цветами, мелькнув белыми, зелёными и синими бантами, прожурчали весёлыми голосишками. Старухи вырядились пёстро, батожками охватывая впереди себя дорогу, будто намечая рубежи, к которым нужно подвинуться, прокандыбали на жёлтый школьный автобус, специально посланный за ними…
Он-то не торопится, без него не начнут!
Примочив под умывальником волосья, уже облачённый в белую чистую рубаху, только не отутюженную, с мятыми рукавами, Иван Матвеевич набрызгал «Шипром» даже в рот, чтобы перебить водочный запах. Повязав ставшие великоватыми брюки дерматиновым ремешком, уже не раз чиненным, поверх тёмного пиджака Иван Матвеевич намахнул почти новую, немарко-чёрную куртку на синтепоне и достал из-под лавки начищенные с вечера ботинки. Прежде чем обуться, долго крутил-вертел на ноге носок, пряча дырку, досадно мотылял головой, да и плюнул: разуваться ему там, что ли?!
Обувшись, по свычке военных лет побухав в пол ногами, словно собираясь в ночную вылазку и проверяя: не загремит ли? не зарочит ли? — Иван Матвеевич с отвращением посмотрелся в овальное зеркало, подвешенное в кухне на гвоздь: мешок с костями, сизый пух на лице, глаза, как стухшее молоко! Ни чина, ни склада в одёже. Воротничок задрался, будто драньё на крыше, брюки, забывшие утюг, накось пересечены молнией, пуговки на пиджаке из разных дивизий: сверху идут большие, тяжёлые, как танковая поступь, посерёдке месят грязь две средненькие, а уж внизу, ближе к ширинке, егозливо скачет на обвисшей нитке, норовит в тылы совсем мелюзга, даже не того цвета…
По переулку, как угорелый, пролетел какой-то лихач, бампером «Жигуля» едва не своротил палисадник, только прошлую осень крашенный в приветный зелёный цвет.
— Ах, чтоб тебя! — в сердцах воскликнул Иван Матвеевич, но омраченье быстро прошло: больно радостен и светел был день.
Митинг, как обычно, в одиннадцать у школы, а это ещё в посёлок надо попасть, ибо перешеек залило, а нанятый от сельсовета перевозчик тоже, поди, норовит с молодёжью на поляну. И наддавал Иван Матвеевич, казнясь, что покочевряжился и не поехал со всеми автобусом, озирался по сторонам, но до самого взвоза не попался на глаза ни един человек. У магазина, нетерпеливо куря «Беломор», заступив в короткую тень от крыши, не поджидали друг друга мужики, не шутковали, привечая товарища: «О-о, Иван Матвеевич, генерал, едет верхом на палочке!», не косились мельком на грудь, как будто с прошлого раза там могло прибыть. Да и от магазина, бывшего до революции купеческим домом с большим двором и двухэтажным амбаром, чернел фундамент и зарастали лебедой бетонные крылечки…
Петюня — высокий худой балбес, детдомовец, глядевший кругом с прищуром, словно всё ему обрыдло, — лежал, задрав ногу, под ольхой, на мягкой жёлтой траве, набросив на лицо серенькую замшевую кепку со сломанным козырьком, а лодка, вцепясь в берег железной кошкой, качалась задом на мелкой ряби, сверкавшей на глянувшем из-за облаков солнце.
— Перево-озу! Перево-озу! — шутя покричал Иван Матвеевич, сев на тёплый нос лодки.
Не сразу откликнулся Петюня, делал вид, шельмец, что не его милости касаемо, а когда потряс его Иван Матвеевич за рукав, совсем раскис: внеплановый рейс, вези задаром старого пердуна.
— Хоть бы поздравил с Победой, Петька! — перевалив себя в лодку, со смешком, но и со скрытой обидой сказал Иван Матвеевич и поглядел на заспанное, недовольное лицо перевозчика.
— Пузырь поставишь?! — оскалился бледно-розовыми дёснами, но грёб старательно, с силой садя вёсла в быструю кипучую реку, которую с боку захлёстывала хребтовая речушка, норовила смахнуть лодку на стремнину.
И не слышно было ранней песни, только серебристые чайки кричали, обсев редкие серые льдины, которые выталкивало с боковых речек вместе с вмёрзшими сучьями и чёрной листвой.
— Не я тебе, а ты мне должен ставить бутылку, да не одну!
— Ага, бегу и падаю! Открывай шире пасть!
— Петька, Петька…
Ладком доставил до того места, где затоплённая дорога, отряхиваясь, выбегает из реки и дальше пылит через мост. Машины, мотоциклы ехали в обход, по трассе, делая огромный крюк, садя горючку. Олухи, конечно, своими-то ногами скорее…
— Сильно-то не задерживайся! Толкнёшь речь, погремишь медалями, рюмаху засадишь — и греби обратно. Я, дед Иван, до часу ещё подожду, а потом плыви вразмашку!
— Свинья ты, Пётр…
— Свинья тоже ись-пить хочет!
Ох, он бы обматерил зубоскала, он бы таких речей насовал ему в пах и дышло, каких ему сроду не перепадало! Да стыдно перед павшими товарищами, и так с Таисией с утра сцепился, обмарал душу грызнёй.
— В час буду как штык! Не умирай раньше времени… — не оглядываясь, часто задышав, пошёл Иван Матвеевич.
— Ну, трохи можешь придержать коней! Я, если чё, тут неподалёку буду, покричишь меня, как потерпевший…
Одолжение сделал! Но чего от них и ждать-то ныне? Им смерть не смерть, а именины. Пьют, дерутся ногами, дураков плодят…
О, если б не святое событие стояло за красным от крови числом, коли б не одна солдатская шея хрястнула ради него, когда бы не замерли на фашистских удавках старики, не были бы изруганы русские женщины, не взвились бы вместе с детьми адовым огнём сёла и города, не омрачилась бы единым взмахом проклятой свастики вся Россия и не стояла б, как застигнутая половодьем белая вербочка, нагнутая шалой чёрной рекой, — Иван Матвеевич, будь его воля, вовсе отменил бы этот день, чтобы не поганили и без того обезображенную землю, которой и так тяжко от проросших травой черепов, от безвестных могил и ржавых касок, оплаканных горьким дождём!
Вот и Петька: никогда он его на митинге не видел, плевал он на всех, на Ивана Матвеевича плевал! Наверняка с утра, пока перевозил приехавших на городском автобусе, насшибал мелочи, сейчас затарится в магазине да удерёт, будет он дожидаться…
Спасибо, разгулялся денёк, ветерком понесло облака, а с ними невесёлые мысли. Омыто восстало в небе солнце, приглядывало сверху Ивана Матвеевича, положив ему па плечо тёплый луч. По реке, распустив надвое струю, прозвенел жёлтый «Крым» с двумя людьми — один за рулём, другой с ружьём наизготовку. Из колеблемого течением ольшаника, гагая, поднялись утки, засеребрились быстрыми крыльями, пропадая па сером фоне кустов.
— Ну, паразиты! Ведь сказано в газете, что нельзя бить с лодки, а они за своё! — Иван Матвеевич замедлился, уставясь на реку и ожидая выстрела, но лодка прошла в низовье.
Зато накатила уже знакомая машинёшка, набитая незнакомой публикой. Георгиевская ленточка, подвязанная к боковому зеркальцу, клокотала па ветру. Чуфыкая полуспущенными колёсами, на кочках оскребая бампером гальку, хлюпая грязью, фиолетовой от призрачного света облаков, «Жигулишко» полетел в посёлок, а Иван Матвеевич отступил на обочину, поскору замахнув па лицо отворот курки…
От винта стремительной пыли перхато сделалось в горле, заслезились глаза. Но и то не беда — жив остался, не свернули под угор!
На территории двухэтажной, из белого кирпича школы, стоявшей на угоре и обнесённой штакетником, уже собрались люди. Из отпахнутых окошек глядели ребятишки, а над крылечным козырьком завернулся кругом древка выцветший флаг, который каждый год вывешивали в этот день ещё с утра. Красные и синие воздушные шары, напрягавшие с порывами ветра тонкие нитки, обрамляли тряпичный транспарант с бумажной надписью: «С Днём Победы!» На концах транспаранта, прикреплённые булавками, летели навстречу друг другу голуби из белого ватмана.
Раньше много лавок стояло у гранитного крыльца, да сбоку ладили стулья — а нынче обошлось двумя лавками. На них уже сидели Мухтарёва Альбина, Сопрыкова Тамара, Настасья Шибанова и другие старухи, все, как одна, обутые в галоши с оторочкой из искусственного меха.
Иван Матвеевич, отвечая на приветствия, протиснулся сбоку.
— Ну-ка, девки, потеснитесь!
— Или тебе места мало? — прищурившись, с затаённым смешком откликнулась Мухтарёва, смолоду зубоскалка и активистка. — Гляди, сколь ишо — хоть Настасью на спину вали!
Старухи мелконько затряслись, горстью сухих орехов раскатился смех.
— Да и у тебя, Альбина, пошла мести языком! — укоротила подругу Шибанова, опираясь па уставленный в щель между бетонных плит магазинский посошок с пластмассовой ручкой.
— Чё-то припозднился наш солдат? Никак, Таисия не отпускала? — утерев пальцами толстые живые губы, на которые от сочности речи выбилась слюна, снова громко заговорила Альбина.