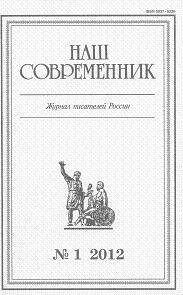Всё разом, что болело в нём весь этот долгий день, взпялось в Иване Матвеевиче от единого слова, будто в саму душу его, смётанную из сушья, сунули горящую спичку, и он, не сдерживаясь более, зажмурился и с яростью своей правоты пинком расшиб застолье.
— Вот вам, сволочи, вот! — для пущего страха провернул ботинком по хлопнувшим пластиковым стаканам. — Пожрали?! Выкусили?!
Расхристанной водкой окатило лицо Бугра, который даже не шелохнулся, задумчиво щурясь на дым длинной коричневой сигареты, от которой душисто пахло. Зато в злую стрелку ушли узкие губы прокажённого. Чернявый опередил его, быстро поднялся с земли — и в движение его было много силы и злости. «С таким в атаке хорошо», — невольно заглядевшись молодым человеком, подумал Иван Матвеевич.
— Зря, старик! — рывком забрав грудки Ивана Матвеевича в кулаки, чернявый присвистнул: за посыпавшимися пуговицами из-под куртки блеснуло. — О, бля! Да ты воин-победитель! Чё ж ты молчал? Дай-ка хоть одну медалю погарцевать!
— Не трожь! — тихо попросил Иван Матвеевич.
— Вот эту возьму, — не слушая, сказал Гена и протянул руку к ордену Красной Звезды. — У тебя их всё одно две!
Но Иван Матвеевич был начеку и, дивясь, что не забыты навыки, выбросил вперёд левую руку, пересекнув встречное движение к наградам, а правой не так сильно, как хотел бы, шлёпнул в лицо. Он уже не владел собой и только знал, что нужно остановить огонь. Однако прежде требовалось как-то вразумить этих людей, которые отпрянули от него и выжидали друг от друга, кто же первый бросится ему на горло. И первым, обмахнув запястьем красный нос, пнул в живот крокодил Гена, а за ним прокажённый поддал локтем…
— Гена, ты что?! Ну, Бугор, что они делают?! Я бою-юсь! — закричала светловолосая Верка.
Её с силой запихали в машину, где уже сидела Надюха и, выученный в подобных вылазках, освоился за рулём Эдик, глядел в зеркальце и давил на лице прыщи.
— Не на-адо, ну не на-адо! Он же совсем старик, как вам не жа-алко-о!
— Сиди, дура, здесь, и не рыпайся!
Обожженная, курившаяся земля быстро повалилась на Ивана Матвеевича, а в затылок больно ударился кирпич: не то сам, падая, свернул сидище, не то в горячке перепало из чьей-то руки. Кто-то, смрадно дыша, надвинулся на него и заглянул в лицо, шаря по груди.
— Жив я, жив, ребятки! — едва слышно вынес из себя Иван Матвеевич. — Ничего, я сам вино…
О, да не сердце его искали, чтобы проверить, бьётся оно или нет, а паршивые железки срывали с пиджака! И больнее, чем от удара, сделалось, единой опухолью взялось тело. Наперев в рёбра, ища из потоптанного нутра выход, брызнула из носу кровь и потекла по шее, за уши, а он всё оттягивал белый воротничок, чтоб его не запачкало.
— Нет у меня Героя, не ищите! — резко видя сжатый рот человека и жёлтые, с чёрными жгучими перцами посерёдке глаза, сказал Иван Матвеевич. — Не золотые они! Простые, как у всех…
— Тиши, отец, тише! Извиняй, нечайно получилось…
— Ну, долго ты? Чего ты? Давай сюда! — закричали словно с другого берега; зарычала и, стрельнув, упорхнула машина…
Забываясь, он слышал, как шаяла и трещала трава, будто сам он, каясь во грехе, в том, что не дал высокого боя, рвал на голове седые волосы. То ударил сильный синий дождь, похоронными пятаками стуча в грудь Ивана Матвеевича, бережной рукой смахивая с пиджака пыль сапог.
«Тася, прости!» — почему-то высверкнуло в памяти, и Иван Матвеевич всей кожей почувствовал вековой холод земли.
Завалясь на бок, оскребая пуговки на горловине хрястнувшей вдоль спины рубашки, Иван Матвеевич к вечеру, кажется, успокоился. Но краем остывающего сознания он всё ещё видел низкое мутное небо и осиротелых птиц, которые носились с рыданиями над выжженными гнездами, над лопнувшими в огне яйцами, над осквернённой и потоптанной Родиной-муравой…
* * *
Наткнулись на Ивана Матвеевича после праздника, в кочкарнике возле воды. Там ещё лежал голубой лёд, на который прибегали из села собаки — кататься и очёсывать шерсть.
Его боевые выслуги, мёртво блестя в мокрой траве, валялись среди пивных пробок, а в воздухе над этим гиблым местом кружили серые чайки. Они вымелькивали в ненастной зге, плескали крыльями, будто клали белые кресты над павшим воином, сходились в небе и сверху, с укором взирая на стыдливо зазеленевшую после дождя землю, кричали и плакали навзрыд.
Приехавший из города молоденький, похожий на необдутый одуванчик следователь, щелкнув серебристым замком портфеля, восторженно огляделся и сказал, что он только по телевизору видел таких больших чаек.