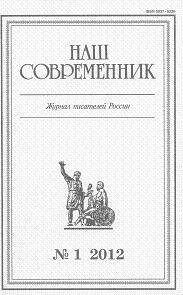— Поймал?
— Куда он подеётся?! Теперь сидит в каталажке, вечером Мурка его захавает…
На них зашикали, а бледный высокий паренёк даже проблеснул стёклами очков.
— Значит, нету путней рыбы, одни гольяны? — совсем шёпотом спросил Иван Матвеевич.
— Где ей быть? Она сюда и зайти-то не может, дядя Ваня-мент ей сетками дорогу перегородил, так, мелочь всякая лезет… Во-он он ставит сетку, уж которую по счёту! Хотя бы кто из ружья его шаланду резиновую подбил…
От кустов, шагнувших в воду по другую сторону рытвины, короткий крепкий мужик в ярко-зелёной «энцефалитке» поперёк старицы выматывал сеть, сидя в резиновой лодке и плеская коротким веслом, и было слышно, как позванивают железные кольца.
— Как же, самый голодный! — съязвил Иван Матвеевич, вмиг посмурнев. — Сам на выслуженной пенсии, баба при заработке, дети пристроены, а урвать кусок, перекрыть нерестовой рыбе ход, дак он наперёд планеты всей!
— Дак я тебе о чём и толкую! — отозвался смышленый пацан и, поплевав па обожжённого нутряной болью червя, вертевшегося на крючке, громко хлюпнул грузилом по воде.
Стервец-перевозчик всё не объявлялся, лежал, наверное, кверху воронкой под кустом.
Зато, надвигаясь от посёлка, до самого ельника облепили едва зазеленевшие полянки машины одна богаче другой. Воскурились костры и громко, наполняя пришлым звуком луг и лес, заиграла музыка, которая никак не отставала в этот день.
«За-а-апа-ахла-а весно-ой-й!» — орал из отпахнутой дверцы джипа мерзкий голос хрипуна, одного из тех, что обыряли крутом, подняли змеиные головы.
— Шерстью твоей палёной запахло, дьявольское отродье!
Но что было сделать? Люди уже были навеселе, много ли оставалось добрать, чтобы впасть в бесчинство…
И вот уже на извороте старицы, с высокого отложного берега понужнули из ружья по плававшим в воде бутылкам. Звук выстрела, как закатившая в желоб струя, длинно раскатился вдоль берегов, пригоршней зерна осыпалась па воду дробь, разлетелось стекло. Из-за поросшего осокой бугра сорвались тяжёлые крякаши и белогрудые гоголя, а чернети, гогоча, нырками ушли на фарватер. Только табунок зазевавшихся чирков низко кружил надо рвом. У машины засуетились, раз за разом садила в воздух пятизарядна, и одна уточка-таки отшиблась от стаи, кувырком упала на воду…
— У, ес! Молоток, Керя! Держи пять! — заорали возле машины, но за добычей не полезли, а, наоборот, сразу утратили к ней интерес и уселись за выпивку.
Уточка ещё была жива, загребая ольшаного цвета лапками, пристала к этому берегу, окружённая красными пластмассовыми гильзами, медными наковаленками ушедшими в воду. Это была серая чирушка, которой выстрелом выбило глаз.
— Плыви, плыви отсюда! — хлопая в ладоши, привстал Иван Матвеевич, а чирушка выставила на него неповреждённое око и вопросительно потегала. — Ну-ка, давай, спасайся! Кому говорю?
Не больно-то споро, но чирушка устремилась за бугор, продвигаясь бочком, долго кружилась на течении, пока не залезла в непроглядный кочкарник.
— Надо было шею свернуть! — заметил очкарик, который уже набрал с берега камней.
— Ух ты, какой вояка! С булыжником против несчастной чирушки!
— Всё равно не жилец! Сдохнет где-нибудь и будет вонять, заражать окружающую среду!
Иван Матвеевич посмотрел на грамотея, потом на остальных ребятишек. Они оставили удочки и вызрелись на него в ожидании, чем он прищемит язык их умному дружку, который, по всему, ходил в их компании вроде энциклопедии, поучал да хмыкал, обижаясь нелюбви к себе, к своему книжному опыту.
— И с одним глазом живут… — сказал Иван Матвеевич неуверенно. — Я однажды — по весне было дело, на Борисовских озёрах — сослепу подбил серую, дак она у меня в ванне с водой жила на улице, пока не окрепло крыло…
Он осёкся; в самом деле, не говорить же было, что Таисия всю плешь изъела ему, а к дочкиным именинам заставила свернуть уточке шею.
— Видал ты! — разом заговорили ребятишки и тут же сдали дружка: — А он ещё тот раз бурундука палкой огрел, жива-адёр!
— Сами вы живодёры! — оскаблился грамотей и с ожесточением выбросил камни в воду. — Вот вам, а не рыбу, раз все такие добрые! Всё, Димка, больше леску не клянчи, мама и так ругала меня, что отмотал папину японскую!
— Подавись ты своей японской! — вылупив глаза, закричал рыжий пацанёнок, рукав которого обсох и, задравшись, явил бледные голодные жилки на руках. — Я ваще своей «Клинской» ловлю в его раз баще тебя!
— Придёте ещё, побирушки! — Он собрал удочку и на велосипеде, блестевшем спицами новых колёс, укатил в посёлок.
Ко рву поспевали другие машины. Высыпали на траву бабы и ребятишки, суетились, громко орокая с соседними гульбищами, весело-пьяные мужики, а от иных кострищ всё чаще сверкали бутылки, разбиваясь у воды с острым звуком лопнувшей пустоты.
— И вы, ребята, садитесь на лисопеды да крутите педали от греха! — распоряжался Иван Матвеевич, сердцем чуя беду. — Давайте, сматывайте удочки да гоните вослед этому умнику… Кто он хотя бы? Я что-то его никогда не видал.
— Да-а, новой русички сынок! Вечно всем недоволен… — ответил лопоухий мальчишка, и первый оседлал драндулет с подвязанными проволокой крыльями. — Ну, погнали, у школы порыбалим!
Наступавшие на луг машины были всё больше иностранного пошиба. Обырял на северных рейсах посёлок, перегон леса и горючки выбивал барыш, хоть потом и кровью давались эти деньги. С тоской озирая убогое празднество людей, вороньим разгулом своим застящих свет великой Победы, слыша похабные песенки, когда бы и помолчать, уставив глаза в горестно прибитую траву, как было не помечтать Ивану Матвеевичу, чтобы на грешную землю тем же мигом повалился крупный град или ударил дождь, налетел бы вызванный силами мёртвых окопников очищающий вихрь, смёл бы страшную вакханалию, отстоял бы эти речушки и деревца в войне с ними человека, от первобытной низости ли, от большого ли ума пошедшего на родную землю напалмом…
— Ах, вы посмотрите, что творят! — от сердца, не умея более держать при себе эту боль, выстонал старый солдат и в другой раз покаялся, что побрезговал школьным автобусом.
Иван Матвеевич ещё помаячил у моста, от которого торчали из воды красные бортики, а на них сидели вороны. Он даже покричал девчушке, с вёдрами спустившейся под угор, чтобы она позвала кого-нибудь из мужиков, но она за звоном дужек не услышала. Собственно, обойти разлив можно, если всё время забирать лесом, только вот ноги бить в обход. Но что ноги? Так, кости, а мясо нарастёт; бывалый солдат завсегда об обувке больше печётся. А вот обувка не та, не походная…
Ельником, дав большого круга от разгульной публики, глядеть на которую особо не хотелось, брёл Иван Матвеевич, оступаясь в глубоком мху, в каждую пору втянувшем сырость. Здесь, в лесу, где остро и чисто пахло водой и багульником, сердце отмякло. Он перебрёл малую протоку и сел на колоду отжать носки, когда со стороны рва, откуда вяло доносило музыку, жахнуло. Дробь прошла но нижним ветвям ёлки, под которой он примостился, а затем со свистом пронеслась уточка и, мёртвая, бухнулась в ернике. Вместе с выстрелом, с гулом его, который не успели рассосать вода и лес, Иван Матвеевич вздрогнул от мысли, которая всю войну наступала на пятки, а в миру отстала: а ну как сейчас же, на этом самом месте под ёлкой горло захлестнёт смертью и жизнь покинет его, как птица старое гнездо?
«О-хо-хо, жись Ивана Горошего, ни шиша хорошего!» — невесело покачал башкой солдат, которого близость края лишь всколыхнула, а вослед этой встряске великое упоенье белым светом сотворилось во всём теле, будто лежат он с кареглазой девкой на молодом сене.
Стыдливо зажмурившись, он пошарил за пазухой и достал синенький блокнотик, который с почётом вручили на митинге. В блокнотик этот заносят всякие важные дела, а затем с оглядом на писаное аккуратно живут целый день, не психуют без повода и не лаются со старухой.
— И для чего тратились? — с уважением и трепетом перебрал сухим пальцем чистые страницы. — Лучше бы курево выделили, как на фронте! А то мне ведь и записывать-то в эту книжечку нечего, последнюю графу мараю…
Блокнотик он всё же бережно убрал подале, решив, что ему эта бухгалтерия ни к чему.
— Отдам Таисии на память, у неё всю дорогу планов, как у партинструктора!
Оп поскору обулся и направился искать переправы через шумящую речку. И в этот миг ударил другой выстрел, и, может быть, дробь прошла как раз по тому месту, которое он покинул…
А день шёл в закат — тёплый, солнечный, с лёгким ветерком, при редких облачках. По упавшему через речку бревну раскорякой, да и то не с первого раза, поспел Иван Матвеевич на тот бережок, на чистый белый песок, на котором не отразились следы людей, и сквозь седой от света ольшаник выбрел со стороны болота. За расступившимся ельником чернели крыши изб, оплетённых нехитрой городьбой, и ярко горело на солнце цинковое покрытие пятистенка участкового милиционера. Шагать по кочкам сделаюсь несподручно, тряско. Он выискан палку и, прежде чем ступить, шуровал ею впереди, опасаясь завалиться в ледяную сырость, правил серой свалявшейся осокой, которая держала сухую лёгкость стариковского тела.