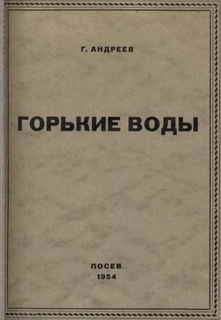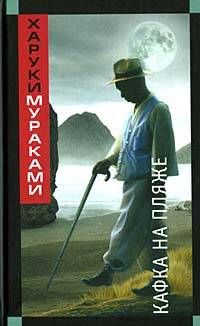— Вон вы какой… философ. Ну, это ничего, случается… Слушайте, а это хорошо, что я вас встретила, — словно загораясь, заговорила она совсем другим тоном. — Я на днях думала о вас… Можете не воображать, ничего такого, о чем вы подумали. Ладно, ладно, молчите! — шутливо и настойчиво остановила она, его, видя, что он хочет перебить.
— Я не к тому, у меня есть к вам серьезное дело. Верно, без шуток… Можете сегодня вечером придти ко мне? Очень важное дело… Я пойду сейчас на свое место, не нужно, чтобы нас видели вместе. А вы вечером приходите, обязательно. Придете?
Николай удивился: что за дело? В её голосе и глазах была озабоченность, почти тревога. Он согласился.
— И очень хорошо. Знаете, где я живу? Лесная, двенадцать. Только вы лучше с другой стороны приходите, через сад, там можно, пролаз есть. Найдете. Как стемнеет, так и приходите, я встречу, или хозяйка. Жду, обязательно! — еще раз повторила она, поднимаясь, потом сверкнула глазами, засмеялась: — Вот и назначила свидание отшельнику! — и быстро, не оборачиваясь, пошла по песку у самой воды.
Николай лег и провожал её недоуменным взглядом. Тьфу ты, что за баба? В самом деле, что ли, Мессалина районная? Последние слова и взгляд грозили всё испортить. Капризная истеричка, избалованная лешими победами? Но откуда эта озабоченность, эта искренность и задушевность в голосе, когда она приглашала к себе? Они не могут лгать. Что она за человек?
Идти или не идти? — думал Николай. — Пообещал, неудобно не идти. Какая-нибудь ловушка? Но что за ловушка, если его во всякое время и в любом месте можно взять голыми руками? Выведать что-нибудь хочет? Чепуха, и это не то…
— Чудеса, — сказал он вслух, но сказал машинально. Чувствуя всё увеличивающееся волнение, он уже знал, не умом, а чем-то большим, что тут не чудо, а что-то другое, что непременно, обязательно заставит его пойти, Нет, вечером он обязательно пойдет…
Остаток дня прошел сумбурно. Придя с пляжа, Николай пообедал, не замечая, что ест, потом ходил по комнате из угла в угол, валялся на кровати, курил и не мог сосредоточиться на чем-нибудь. Он даже не думал о том, зачем позвала его Варварина. Перед глазами неотступно вставали смеющееся лицо, глаза, губы, округлые плечи, ноги, заставлявшие его стыдиться своих сухопарых не ног, а жердей, как сердясь, называл он свои ноги теперь. Видения эти вызывали сверлящую боль.
— А ведь я втюрился. И здорово же втюрился… Вот не было печали. Что же это будет? Не во время, совсем не во время… Да ведь как втюрился, — вздыхая, время от времени повторял он, думая о себе, как со стороны, сокрушаясь и урезонивая втюрившегося. Но делал это будто только для порядка, чтобы, может быть, лишь оправдать или объяснить свой конфуз. Не было смысла в урезонивании, он сознавал, что встреча на пляже, перевернувшая в нем всё, была только точкой, как бы поставленной в конце фразы, начатой еще в его комнатке в заводоуправлении. Встреча только взворошила то, что пряталось в глубине души, непонятное ему самому, — теперь тайное стало явным.
Думал он и о том, что ничего особенного нет: о его волнении можно прочитать в тысяче романов. Шаблон, повторяющийся вечно. Но и эта мысль не успокаивала и не давала облегчения, наоборот, она скорее возмущала. Николай подумал, что нельзя не урезонивать себя, не протестовать против своего чувства: если его просто принять, подчиниться ему без борьбы — тогда получится по-скотски. Отбросить, заглушить чувство на что, может быть, и хватило бы силы, тоже казалось противоестественным. В этом борении с самим собой и заключался тот смысл, которого, будто бы, не было в урезонивании, — думал Николай. Но и это препарирование своего чувства не принесло облегчения. И оставалось одно, мучиться и подгонять время, словно застрявшее в часах, которые невыносимо медленно отсчитывали минуты и часы.
Он вышел из дома, как только начало смеркаться. Стараясь идти тише, пришёл на обрыв, откуда открывался вид на Волгу и далекое Заволжье. Об этом обрыве сегодня упоминала Варварина. «Заметили, здесь не укроешься», — подумал Николай, закуривая папиросу и садясь на камень, на котором привык сидеть. Но долго не усидел: бросил папиросу и опять пошёл бродить по улицам.
Засветло прошёл и по Лесной, чтобы увидеть нужный номер. Им оказался небольшой старенький дом с мезонином, почти заслоненный густой зеленью сирени и акаций, росших в ветхой отраде палисадника. Мельком взглянув и запомнив, Николай прошёл мимо.
Вернулся он на Лесную, когда уже совсем стемнело. В доме с мезонином ни в одном окне не было и проблеска света. Сердце у него сжалось. «Не посмеялась она? Никого же нет, никто не ждет». Эта мысль была настолько непереносима, что он чуть не бегом бросился в боковую улицу, чтобы пройти на зады.
Направо, он знал, начиналось запущенное кладбище, с разрушенными памятниками, без крестов: кресты давно растащили на дрова. Город тут кончался, стояли только отдельные домики, сейчас спрятанные в темноте. И тут же, левее, тянулись плетни дворов, воротами выходивших на Лесную.
Он легко нашел полуразгороженный кусок плетня-пролаз, с бьющимся сердцем перебрался в темь сада. Неровными черными куполами поднимались деревья — ниже ничего не было видно и он не знал, куда идти, куда поставить ногу. И тихо было до того, что скрип сверчка оде-то в глубине сада казался оглушительным.
— Еще любовных приключений мне не хватало, — прошептал Николай, Опять стараясь успокоить себя. — Будто мне восемнадцать лет, но чужим садам шастаю…
Он сделал несколько шагов наугад — впереди что-то зашуршало, из темноты вышла, низенькая старушка и едва слышно прошелестела:
— Вы к Верочке? Пойдемте, проведу, — взяла за рукав и повела.
В душных сенях горела тусклая лампочка — после темноты её свет был ослепительным. Направо уходила наверх узкая лесенка — старушка подняла голову:
— Верочка, к тебе.
— Пусть сюда идет! Спасибо, тетечка, — послышался голос Варвариной.
Ступеньки скрипели; хватаясь за перила, Николай взобрался наверх. Откинув занавеску открытой двери, Варварина ждала его.
— Нашли? Вот и чудно! Входите, сюда, — по прежнему насмешливо приглашала она. — Вы просто миляга, такой послушный, исполнительный. А меня извиняйте, я совсем по-домашнему. Жара, не вынести. Присаживайтесь.
Николай искоса взглянул — она была в тонком не то халате, не то капоте, желтом с красным, свободно висевшем почти до пола. В глазах её почудился такой блеск, что впору было зажмуриться и не глядеть. Чтобы те растеряться совсем, он поскорее сел на диван, закурил и принялся разглядывать комнату.
— Вот так, посидите паинькой, а я пойду пойла принесу, — усмехнулась Вера, и вышла.
Николай плохо запомнил комнату. Широкий старый диван, на котором он сидел; у изголовья маленький столик. Напротив — застланная белым кровать, за ней, кажется, чемоданы, у занавешенного окна на улицу стол с грудкой книг, за дверью длинная занавеска, за ней, наверно, вешалка с одеждой. Чисто, пахнет духами, пудрой и той духотой, которая бывает только в деревянных домах, под самой крышей, — не помогало и открытое окно в сад, за тюлевой занавеской. На столике у дивана — лампа под матерчатым абажуром; под низким потолком. Другая, тоже с самодельным абажурчиком. Николай хотел погасить верхний свет, чтобы не так было видно, но не решился.
Это сделала Вера. Она скоро вернулась, с большим глиняным кувшином и стаканами в руках. Поставив их на столик, выключила верхнюю лампочку:
— Не возражаете? Так уютнее. Видите, как живу? — Вера села рядом, налила стаканы. — Не до- жиру, мала, комната, да ничего. Очень уж я не люблю в коммунальных квартирах жить, надоело. Раз в глуши, так чтобы совсем по-деревенски было, со сверчками, с котом, и чтобы я одна была. Одно плохо: как на чердаке, летом не продохнешь. Я уж пивом спасаюсь, пью, как верблюд. Холодненькое, со льда, пейте… Хотя, может, чего покрепче дать? Найдется.
Николай отказался.
— Ну, была бы честь предложена. А пивом по-русски чокаться не полагается. Вез чоканья, ваше здоровье! Ничего пивцо, я в Германии была, мне уши продудели, немецкое пиво! Это да, это класс! И ничего подобного, бурда кислая. Это куда лучше…
Они выпили по стакану, по второму — Вера продолжала болтать о каких-то пустяках. Николай слушал, не вникая в то, что она говорит. Он с тревогой прислушивался к себе, почему он, собственно, здесь? Только потому, что Вера ему нравится — до того, что он способен забыть об всем, только потому, что он втюрился до потери самообладания? Он пил, курил, и чувствовал себя так, словно сидит у какого-то провала, каждый миг он может оборваться в него, как в зияющую пустоту. И вместе с тем помнил, она же хотела сказать о нем-то важном, — почему она об этом важном не говорит? Не может же быть, чтобы она солгала, еще может открыться что-то другое, такое, перед чем всё его волнение, этот дурманящий любовный бред окажется глупой, ничего не стоящей и стыдной чепухой, от которой потом придется мучительно краснеть перед самим собой.