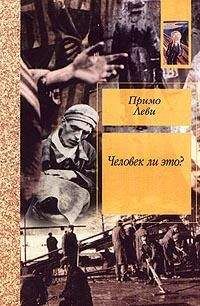Также и у Маркина, экс-дяди, была несчастливая любовная история. Он влюбился в Сусанну (по-еврейски «лилия»), женщину благочестивую и энергичную, хранительницу секрета приготовления гусиной копченой колбасы по старинному рецепту. В качестве оболочки для этой колбасы используется шея птицы, поэтому ничего удивительного, что лассон а-кодеш («святой язык», а точнее сказать, еврейско-пьемонтский жаргон, о котором мы тут рассуждаем) сохранил целых три синонима слова «шея»: первый – махане – нейтральный, употребляющийся в своем основном значении, второй – савар – только, в идиоматическом выражении а рута дзавар (сломя шею), и третий – ханек – самый многозначный, связанный с жизненно важным органом – горлом, способным засориться, закупориться, или его можно перерезать; это слово встречается в ругательствах, типа «чтоб ты подавился» (к'ат реста ант л'ханек), а глагол ханикессе значит «повеситься». Маркин работал у Сусанны: помогал ей на ее скрытой от посторонних глаз фабрике-кухне, продавал в лавке готовую колбасу, лежавшую на полках вперемешку с обрядовыми предметами, амулетами и молитвенниками. Сусанна его любовь отвергла, и он гадко отомстил ей, продав рецепт приготовления колбасы одному гою. Судя по всему, этот гой не осознал всей ценности обретенного секрета, потому что после смерти Сусанны (а умерла она в незапамятные времена) уже невозможно было купить продукт, изготовленный в старых традициях и достойный именоваться копченой гусиной колбасой. За свой омерзительный поступок дядя Маркин потерял право называться дядей.
Самым далеким из всех, инертным из инертных, окутанным невероятными легендами и превращенным потомками в застывшее изваяние, был Барбабрамин из Кьери, дядя моей бабушки по материнской линии. Он разбогател, будучи еще совсем молодым, скупая у аристократов их имения по всей округе, от Кьери до Астиджано. В расчете на наследство его родственники растранжирили все свои средства на приемы, балы и поездки в Париж. Случилось так, что мать Барбабрамина тетя Милка (царица) заболела и после долгих препирательств с мужем дала наконец согласие на то, чтобы взять в дом хаверту (служанку), о которой до сих пор и слышать не хотела: что-то ей подсказывало, что добром это не кончится. Плохое предчувствие оправдалось: Барбабрамин сразу же влюбился в эту хаверту, возможно, потому, что она мало походила на тех святых женщин, которые его окружали.
Имя ее до нас не дошло, но ее приметы время сохранило: цветущая, красивая, и еще у нее были потрясающие халавьод (груди). (Такого слова в книжном еврейском нет, есть халав в единственном значении – «молоко».) Она, естественно, была гуйя, нахальная девица, читать и писать не умела, зато готовила так, что пальчики оближешь. По крестьянской привычке по дому она бегала босиком. Во все это дядя и влюбился – в ее икры, в развязную манеру говорить и в еду, которую она готовила. Девушке он не сказал ни слова, но отцу с матерью заявил, что хочет на ней жениться. Разъяренные родители сказали нет, тогда он слег в постель. И лежал двадцать два года.
О том, чем Барбабрамин занимался в течение этих лет, мнения расходятся, но с уверенностью можно сказать, что большую часть времени он проспал, в результате чего его экономическое состояние пришло в упадок: он перестал «стричь купоны» с ценных бумаг и доверил управление своими имениями одному мамзеру (выродку), который продал их за бесценок подставному лицу. Как тетя Милка и предчувствовала, Барбабрамин не только разорился сам, но оставил ни с чем многочисленных родственников, передающих из поколения в поколение память об этом горестном факте.
Рассказывали, что он много читал, считался ученым, мудрым и справедливым и даже принимал у своей постели депутации уважаемых людей города Кьери, приходивших за советом или с просьбой рассудить какой-нибудь спор. Еще рассказывали, что та самая хаверта тоже знала дорогу к этой постели и что дядя, по крайней мере в первые годы, нарушал свое добровольное затворничество по ночам, спускаясь в кафе поиграть в бильярд. В постели тем не менее он провел без малого четверть века, и, когда тетя Милка и дядя Саломон умерли, он женился на хаверте и забрал ее в постель уже окончательно: к этому времени он порядком ослабел и ноги его уже не слушались. Умер он глубоким стариком в бедности, но в ореоле славы и в душевном спокойствии. Случилось это в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году.
Сусанна (та, что изготовляла гусиную копченую колбасу) была двоюродной сестрой бабушки Мальи, моей бабушки по отцовской линии, оставшейся юной модницей в кокетливых позах на нескольких фотографиях конца шестидесятых годов девятнадцатого века, а в моей ранней детской памяти – неаккуратной, сморщенной, раздражительной и совершенно глухой старухой. До сих пор шкафы со своих верхних полок выдают время от времени бесценные реликвии: черные кружевные шали, украшенные переливающимися блестками, изысканные шелковые вышивки, муфту из куницы, изъеденную молью четырех поколений, массивные серебряные приборы с ее инициалами. Создается впечатление, что беспокойная душа бабушки Мальи до сих пор посещает наш дом.
В расцвете лет ее называли страссакёр (разбивающая сердца). Она очень быстро овдовела, и ходили слухи, что мой дедушка от отчаяния, что жена ему изменяет, покончил с собой. Своим сыновьям она особого внимания не уделяла, хотя выучила всех троих, и, будучи уже не первой молодости, вышла замуж за старого врача-христианина – внушительного вида молчаливого бородача. С тех пор она резко изменилась: стала скупой и сумасбродной, хотя в молодости отличалась королевской расточительностью, свойственной красивым избалованным женщинам. С годами ее любовь к близким (которая и прежде не была особенно горячей) иссякла совсем. Жила она со своим доктором на улице По, в темной неуютной квартире, отапливаемой зимой одной-единственной печкой Франклина, и ничего не выбрасывала (а вдруг понадобится?) – ни сырной корки, ни одной станиолевой бумажки от шоколадных конфет, из которых она делала серебряные шарики и отправляла в далекие католические миссии в подарок «освобожденным[8] негритятам». Боясь, возможно, ошибиться с окончательным выбором, она по очереди посещала синагогу на улице По и церковь Святого Октавия и, что совсем уж кощунственно, ходила к исповеди. Умерла она в 1928 году, когда ей было уже за восемьдесят, в окружении таких же, как она, выживших из ума и одетых в черное соседок с растрепанными волосами, среди которых за главную была мегера по имени мадам Шилимберг. Несмотря на мучительные боли, вызванные отказом почек, бабушка Малья до своего последнего вздоха ни на секунду не выпускала эту Шилимберг из поля зрения, боясь, как бы та не нашла мафтех (ключ), спрятанный под матрацем, и не украла манод и хафассим (драгоценности), которые, впрочем, оказались фальшивыми.
После ее смерти сыновья и невестки в течение нескольких недель с ужасом и отвращением разбирали хлам, которым был завален дом. Бабушка Малья хранила все, не делая различия между элегантным нарядом и перелицованным старьем. Из внушительных ореховых шкафов выползали полчища побеспокоенных клопов, извлекались на свет ни разу не использованные и протертые почти до прозрачной тонкости льняные простыни, занавески и покрывала из двустороннего Дамаска, коллекция чучел колибри, которые рассыпались в прах при первом же прикосновении; в кухне были обнаружены сотни винных бутылок дорогих марок, содержимое которых давно превратилось в уксус. Еще были обнаружены восемь ненадеванных пальто доктора, напичканных нафталином, и одно-единственное, которое она разрешала ему носить, латаное-перелатаное, с залоснившимся до блеска воротником и масонским знаком в кармане.
Я почти ничего о ней не помню; отец даже за глаза называл ее татап и имел обыкновение говорить про нее в насмешливом тоне, слегка смягченном сыновней жалостью. Каждое воскресное утро он водил меня к ней пешком, и пока мы не спеша шли по улице По, то и дело останавливался, чтобы погладить встречных кошек, понюхать трюфели на лотках, перелистать старые книги у букинистов. Мой отец был инженер, из его карманов вечно торчали книги, его знали все колбасники, потому что, покупая ветчину, он всегда проверял на своей логарифмической линейке, не обсчитали ли его. Нельзя сказать, что ветчину отец покупал с легким сердцем; он испытывал неловкость, нарушая запрет, даже страх, не религиозный, а скорее суеверный, однако настолько любил ее, что, увидев в витрине, каждый раз поддавался искушению, правда тяжело при этом вздыхая, бормоча вполголоса проклятья и скосив взгляд на меня, словно боялся моего осуждения или рассчитывал на поддержку.