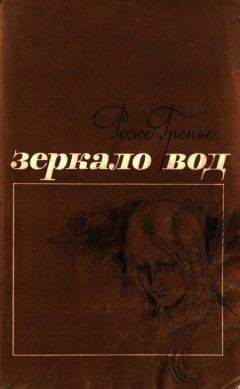Жан закрыл глаза.
— Господин Деменс, вам нехорошо?
— Нет. Просто мне жаль жену этого человека.
— Бедняжка, он обманывает ее senza vergogna.[4]
Подвозя Анжелу к приземистому зданию на улице Ренар, Жан узнал, что в квартале осуждают Эдди и превозносят Женевьеву; в ее смирении было что-то благородное, она держалась с грустным достоинством, и ее клиенты, приносившие одежду в починку, ей сочувствовали.
Поздно вечером в кухне на авеню Лепутр Жан рассказал об этом Лорану. Тот в свою очередь нахмурился.
— Он в открытую заводит любовниц?! — проворчал он. — Ну и свинья! Разве не следует соблюдать приличия?
— Следует, причем всегда!
Любовники понимающе посмотрели друг на друга и вернулись к своим занятиям: один чистил овощи, другой накрывал на стол. Этот обмен мнениями подтвердил негласный уговор.
Жан и Лоран не питали иллюзий: они понимали, что мужчинам трудно устоять перед искушением, но они также знали, что минутный порыв не влечет за собой последствий — хоть женщины и отказываются в это верить! Переспав с кем-то на стороне, мужчина любит свою спутницу или спутника жизни не меньше, чем прежде. Сердце само по себе, тело само по себе. Для мужчины секс и нежная привязанность не всегда идут рядом.
Между Жаном и Лораном было достигнуто согласие: в том, что касается чувств, они хранят друг другу верность, что не исключает плотских измен; запрещено лишь выставлять их напоказ или влюбляться. Легкие отклонения допустимы, пока они проходят незамеченными, без последствий. Благодаря этому Жан и Лоран любили друг друга, не прибегая к кастрирующему чувство деспотизму.
Вот поэтому они порицали грубость Эдди и презирали его за то, что тот унижает супругу: если уж приспичило сходить налево, то не стоит трубить об этом на всю округу и причинять страдания ближнему.
В следующие месяцы они часто задумывались насчет страшившего их параллельного брака. Им хотелось вмешаться, замедлить этот распад. Но что тут можно было сделать? И по какому праву?
Они поражались, насколько этот брак отличается от их жизни. Хотя они и жалели о том, что им не дано иметь детей, но ведь они жили вместе не ради этого! Хотя они составляли мужскую пару, эта аномалия парадоксальным образом облегчала им жизнь, так как двум особям одного пола легче понять друг друга, чем разнополой паре. Так, может, в этом и состояло преимущество маргинальности?
В Рождество из утренней болтовни Анжелы Жан узнал, что Женевьева беременна.
— Quale cretino![5] Мало того что ни одной юбки не пропустит, так еще и набрасывается на свою благоверную! Povera Женевьева! Теперь ей предстоит прокормить четыре рта: un marito incapace[6] и троих ребятишек!
Вернувшись домой, Жан сообщил Лорану о предстоящем рождении ребенка.
В день крестин они отправились на церемонию, где, укрывшись в глубине церкви, увидели участников того памятного венчания. Прошло пятнадцать лет, кое-кого было не узнать — у одних прибавилось морщин, они стали ниже ростом, другие же неплохо сохранились, детишки превратились в подростков, а подростки в зрелых людей.
Но взгляды Жана и Лорана были прикованы к Эдди и Женевьеве.
Женевьева почти не переменилась. Ее красивое, с правильными чертами лицо лишь утратило свежесть. Будто его затуманила тень несбывшихся мечтаний. Но то, как цепко она держала новорожденного, выдавало ее тревогу: она держалась за него как за последнюю надежду — немой крик, адресованный собравшимся: «Вот видите, я все еще его жена! Видите, Эдди по-прежнему любит меня!» Несчастная не могла допустить мысли, что ее жизнь обернулась крахом.
Эдди, тот красовался, принимая напыщенные позы, будто петух, окруженный курами. Он ни разу не посмотрел на Женевьеву, ни на миг не взглянул на старших детей, Джонни и Минни, нет, он стремился обольстить всех присутствующих хорошеньких женщин. Крошечную Клавдию он взял на руки лишь затем, чтобы продемонстрировать, что способен на нежность, так как подобная картина могла впечатлить дам.
Присутствовавшие при этой сцене Жан и Лоран были потрясены. Они поняли, что супруги продолжат сошествие в ад. Оставался лишь один вопрос: что их ждет в этой бездне?
Вернувшись к себе, Жан и Лоран занялись любовью, испытывая необычную жажду утешения, будто сплетение рук и ног могло заслонить их от жестокости мира.
Прошло два года.
В магазине, время от времени вслушиваясь в болтовню Анжелы, Жан уловил кое-какие подробности жизни четы Гренье, которые продолжали отдаляться друг от друга, но все же не расставались.
Однажды Анжела сообщила, что Женевьева, хоть ей уже стукнуло сорок, снова беременна.
— Non capisco niente![7] Господин Деменс, раз уж живешь с такой скотиной, то разве не следует принимать пилюли?
— Э-э, ну…
— Простите! Вы про таких людей понятия не имеете. Вы ведь джентльмен. Non farete soffrire mai una signora.[8]
Так как Жан с его мужественной внешностью льстил женщинам, чаровал их, те и не подозревали, что он на них вовсе не зарится. Так что Анжела приписывала хозяину бурные романы с некоторыми изысканными дамами из числа покупательниц. Что касается Лорана, то, едва познакомившись с ним, она решила, что тот ведет сходный образ жизни. Ей, как истинной итальянке, привыкшей к тому, что мужчины предпочитают мужское общество, в голову не могло прийти, что связывает их на самом деле.
— Самое скверное, господин Деменс, — это то, что Женевьева, похоже, довольна тем, что носит этого ребенка! Да, esibisce[9] свой громадный живот, будто королева, разъезжающая в карете. A quarant’anni![10]
На этот раз не было объявления в «Ле суар» — дядюшка, оплативший публикации, тот, что некогда обеспечил им свадьбу в замечательном соборе Святой Гудулы, только что отдал богу душу.
Тем не менее Жан и Лоран, предупрежденные Анжелой, попали в часовню на обряд крещения Давида.
Площадь Жё-де-Баль, где каждый день с утра кипел блошиный рынок, уже опустела; на мокрой брусчатке повсюду валялись затоптанные обрывки газет, набивка драных кресел, сломанные плечики, сплющенные картонные коробки, щербатые миски. Пока припозднившиеся торговцы загружали нераспроданный товар в фургоны, две чернокожие женщины запихивали приглянувшиеся им брошенные вещи в пластиковые пакеты, старик в спортивной куртке и рыбацких резиновых сапогах тоже подбирал остатки, делая вид, что случайно проходил мимо.
Перед церковью из темно-красного кирпича Жан и Лоран спрашивали себя, что они здесь забыли. Их привела скорее привычка, чем подлинный интерес. Эта игра их больше не забавляла. Хотя долгие годы они осуждали Эдди, теперь их неодобрение обратилось на Женевьеву. Почему она бездействовала? Почему вместо того, чтобы избавиться от своего гнусного мужа, вновь отдавалась ему? Или она патологически слаба, или до сих пор любит его, что также свидетельствует о патологии. Так как они не знали, что предпочесть — слабость или мазохизм, им хотелось бежать от заколдованного круга брака. Что у них общего с этой парой? Больше ничего. На пороге церкви они дали себе слово, что в последний раз проявили интерес к Эдди и Женевьеве. С них довольно!
Они вошли в церковь Пресвятой Непорочной Девы, которую также называли испанской, потому что здесь собирались иммигранты, выходцы из испаноязычных стран. Непонятная архитектура, желтые стены и свисающие с потолка светильники больше напоминали школьную столовку, чем место отправления культа. Обогнув вазы с букетами из искусственных цветов, они заняли обычное место, вглядываясь в оживление вокруг темного деревянного алтаря.
Женевьева разительно переменилась. Она помолодела лет на десять и стала выше на двадцать сантиметров. Миловидная, элегантная, несмотря на простоту своего наряда, она с явным трепетом прижимала к груди ребенка. Чуть поодаль стоял мрачный, плохо выбритый Эдди; напружинившись, как сторожевой пес, он с неприязнью бросал взгляды на приглашенных; в отличие от предыдущих церемоний он не хорохорился.
Когда сзади скрипнула дверь и чья-то тень скользнула в правый придел, симметричный тому, где находились Жан и Лоран, они почувствовали, что назревает нечто.
Темноволосый, типично испанского вида мужчина вжался в скамью, стараясь остаться незамеченным.
Церемония началась.
Женевьева, широко улыбаясь, время от времени оглядывала закоулки церкви, посматривая то вправо, то влево. Ее поведение означало, что она догадалась о появлении незнакомца, но не видела его. На миг она подняла повыше маленького Давида, чтобы его можно было видеть издалека.
Испанец пристально наблюдал за крестинами, в положенных местах опускаясь на колени или выпрямляясь, бормоча молитвы, подпевая вполголоса псалмы и старательно в положенных местах возглашая «Аминь!».