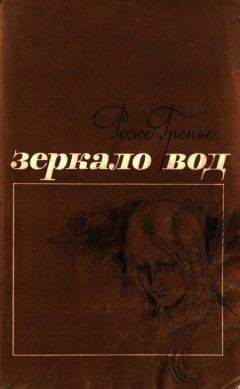Жану хотелось выскочить на улицу и крикнуть ей: «Оставь его! Он тебе испортил жизнь, дальше будет еще хуже. Скорее отправляйся к Джузеппе!»
Но по заботливости, с которой Женевьева катила кресло, избегая неровностей дороги, удостоверяясь, что он хорошо укрыт, Жан понял, что она не изменит своего решения. Жертвуя своим счастьем, она похоронит себя заживо, с самоубийственной добротой избрав жалость к Эдди, а не любовь к Джузеппе.
Она прошла в нескольких метрах от него; при виде того, как нежно она направляет кресло с овощем, в который превратился Эдди, к кварталу Мароль, негодование Жана сменилось восхищением. Какое достоинство! «В горе и в радости…» — провозгласил кюре в сиянии витражей собора Святой Гудулы. Она дала клятву и держит слово. Счастье было таким недолгим, а давно сменившему его горю не видно конца. Жан осудил собственное ничтожество… А способен ли он на такую самоотверженность?
Потрясенный, он сел в машину и долго кружил — без смысла и цели, задумчиво — по тоннелям, пронизывающим город.
Узнав о полной перемене планов Женевьевы, Лоран тоже разволновался. Как можно поставить что бы то ни было выше счастья? Он такого и представить не мог… Женевьева, решения которой они оба не одобрили, заставила их усомниться.
В тот вечер Лоран задал Жану вопрос:
— Ты меня не разлюбишь, если я стану калекой?
— Не знаю. До сих пор ты приносил мне лишь радость, — ответил Жан. — А ты?
— Я тоже не знаю.
Они задумались.
— В сущности, невелика наша заслуга, что мы любим друг друга, — заключил Лоран.
Жан кивнул.
Они переглянулись, обуреваемые противоречивыми чувствами. Следует ли дать друг другу доказательства своей привязанности? Абсурд. Они не стали делать окончательных выводов и отправились в кино.
Последующие месяцы подтвердили самоотверженность Женевьевы.
Лоран, у которого вошло в привычку присоединяться к коллегам по цеху в барах квартала Мароль, нередко видел Джузеппе; с каждым разом тот выглядел все более понурым, удрученным.
— Хозяин «Попугая» говорит, что Джузеппе вскоре собирается вернуться в Италию, — однажды сообщил он Жану, — а недовольное выражение его лица объясняет тоской по родине.
— Ну и дела… А Давид? Стало быть, он так и не узнает своего настоящего отца?
— Это судьба побочных детей: здесь решает мать.
Скверный поворот, который приняли события, — хроника объявленной катастрофы — охладил их интерес к семейству Гренье.
Как-то непроизвольно они почти забыли о Гренье, завели новых друзей, стали чаще путешествовать.
Быть может, им стало страшно… Кто из нас, вплотную столкнувшись с чужой бедой, не опасался заразиться?
После, когда мы понимаем, что несчастье не передается, как вирус, то боимся уже не самой беды, а того, как поведем себя перед лицом несчастья. Инерция, что помогает нам выстоять в тяжких ситуациях, открывает двери негативным внутренним силам, тем, что побуждают заглянуть в пустоту, подталкивают нас склониться над клокочущим кратером, приблизиться к лаве, вдыхая гибельный раскаленный воздух…
Повинуясь инстинкту самосохранения, Жан и Лоран отошли в сторону.
Прошло несколько лет.
Жан и Лоран приблизились к пятидесяти, не лучший возраст для мужчины, когда начинается обратный отсчет: будущее более не казалось им бесконечным, это просто было время, которое им осталось. Больше не стремясь подгонять события, они хотели замедлить ход времени.
Они бы сильно изумились, если бы кто-то напомнил им, что десятью годами ранее они что ни день говорили о Женевьеве.
Сохранив свою любовь, они обрели привычку любви, все меньше воспринимая ее как чудо. Каждый гадал, какой была бы его жизнь, сделай он иной выбор, не избери именно этого спутника жизни, предпочтя его всем прочим… Естественно, эти умозрительные вопросы не находили ответа, хотя и омрачали их повседневное существование.
В «Сердечной удаче» Жан уже не выслушивал сплетен Анжелы, так как итальянка переехала с улицы Ренар и, следовательно, сменила соседей.
Однажды, когда он раскладывал украшения в витрине, ему вдруг показалось, что у него галлюцинация. По ту сторону стекла женщина со знакомым лицом указывала прелестному мальчику лет десяти на браслет из лазурита. Жан не знал, на кого смотреть — на сына или на мать: ему было удивительно видеть превращение задорной, с искрящимися глазами, Женевьевы в счастливую мать, а сияющая красота мальчика привела его в восторг.
Прогуливаясь по торговой галерее, Давид и Женевьева обменивались замечаниями по поводу выставленных в витрине драгоценностей, не замечая, что на них из бутика украдкой поглядывает Жан.
Красота Давида потрясла его.
Любопытствующие двинулись дальше. Жан мог бы выйти из магазина, нагнать их, уговорить посмотреть украшения, примерить их. Но, окаменев, он не реагировал, витринное стекло стало непреодолимой границей, стеной между прошлым и будущим.
За ужином, когда он поведал историю Лорану, тот беззлобно высмеял его, а потом спросил:
— Давид — он правда так красив?
— Истинная правда!
На следующий день Лоран вновь задал этот вопрос:
— Он красивый?
Жан кивнул и как мог описал Давида.
Назавтра Лоран слегка изменил свой вопрос:
— Очень красив? Как именно?
Теперь он возвращался к этой теме непрестанно…
Жан понял, что не может дать исчерпывающий ответ, и реагировал вопросом на вопрос:
— Хочешь его увидеть? Можем дождаться его около дома.
Лоран просиял.
В половине пятого они припарковались на улице От в квартале Мароль, чуть поодаль от входа в дом, где жила Женевьева.
Вдруг появился мальчик, и Жан указал на него пальцем.
Давид, закинув ранец на спину, не шел по тротуару, а скорее танцевал, легкий, как радость.
Покрасневший Лоран наклонился вперед, пригнулся и, задержав дыхание, пристально вгляделся.
Поняв, что друг крайне взволнован, изумленный Жан обернулся к нему. На шее Лорана напряглись жилы.
Мальчуган, улыбаясь, пересек проезжую часть и, пройдя по улице Ренар, вошел в подъезд своего дома.
Лоран перевел дыхание:
— Я уверен, что если бы у тебя был сын, он был бы похож на Давида.
В этот миг Жан понял, какую страсть питает к нему Лоран.
Они долго сидели молча, сплетя пальцы и откинувшись на подголовник кресла, потерянно глядя вдаль. К их переживанию, кроме силы чувства, владевшего ими, примешивались еще и фрустрация, отчаяние и острое глубинное сожаление о том, что у них нет детей.
— Тебе так этого не хватает? — шепнул Жан.
— Ребенка?
— Да…
— Мне недостает маленького тебя — тебя в миниатюре, карманного Жана, которому я был бы необходим. Я безмерно дорожил бы им, ни на каплю не уменьшив любовь к тебе. Ты ведь знаешь, я способен на большее, не все еще растрачено.
Лоран улыбнулся, обрадованный тем, что сумел выразить волновавшие его чувства, и спросил Жана:
— А ты?
Тот не ответил. Мысленно он никогда не формулировал свои мечты или разочарования словами, тем более такими. Он сменил тему:
— Лоран, ты что, так сентиментален?
— Ты вместо ответа нападаешь на меня. А ты?
Жан остолбенел, и Лоран отчетливо, как если бы обращался к глухому, повторил:
— А ты?
— Я… я не допускал подобных мыслей. Я ведь не жалуюсь на то, что я гомосексуал и не страдаю от этого…
— Но ведь все по-прежнему в порядке?
— Нет, но я веду себя, будто все в порядке.
— В глубине души ты со мной согласен. Так скажи это! Скажи, что завидуешь этим гетеросексуалам, которым ничего не стоит настряпать себе подобных, даже когда они не любят друг друга! Скажи, что хотел бы, чтобы у нас был малыш, который путался бы под ногами, мальчуган, похожий на нас с тобой. Скажи, ну скажи это!
Жан выдержал взгляд своего спутника; он медленно, будто нехотя, кивнул, прикрыв глаза; тотчас он почувствовал жжение и вдруг разрыдался. Лоран притянул его к себе, заставляя расслабиться.
Странная нежность…
Когда они пришли в себя, Лоран взялся за руль и с улыбкой произнес:
— К счастью, мальчик нас не видел! Его бы немало позабавило наше старческое кудахтанье…
С этого дня Давид стал самым большим везунчиком в квартале Мароль. На улице он вечно находил деньги. Если ему не везло с даровыми билетами в кино, то он получал приглашения в театр от невесть какой благотворительной ассоциации, пекущейся о культурном развитии молодежи. Ни в один почтовый ящик не опускали столько бесплатных дисков, книг, парфюмерных флакончиков! К двери его квартиры почтальон доставлял подарки от мэрии: велосипед, теннисную ракетку, роликовые коньки. По весне ему досталась от некой организации, якобы оценившей его успехи в учебе, — поездка в Грецию на двоих (он мог выбрать, с кем ехать). Естественно, он отправился в Афины в сопровождении матери. Такое везение породило легенду: у него, благодаря веселому нраву, и прежде была куча приятелей; теперь же он стал любимцем фортуны; даже взрослые нередко обращались к нему, спрашивая накануне тиража лотереи про его любимые цифры.