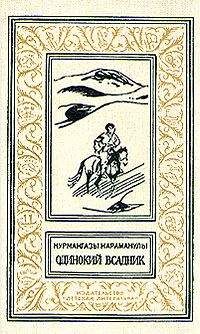— Какая? — Игорь Петрович под мухой. Он в том состоянии, когда хочется похвалы. Хотя бы и самой малой. — Какая ценная черта — говори.
— Э, нет. Людишки портятся, если им скажешь, что в них хорошего. Когда-нибудь скажу.
— Ну и катись к дьяволу. Убирайся!
— Игорь, это ведь ты у меня дома, а не я у тебя.
Некоторое время прозаик переваривает этот неожиданный факт. Он вспоминает, кто есть кто. Потом оглядывает на столе выпитые бутылки. Потом начинает рваться к телефону.
— Я скажу. Я сейчас им все скажу… Во-первых, я уезжаю на зауральскую стройку. Лучше жить с медведями, чем…
— Угомонись, — удерживает Светик, — половина второго ночи.
— Лучше с медведями, чем…
— Не трожь телефон!
— Половина второго ночи. Метро закрыто… Он не ночует дома, — сухо произносит теща.
— Он приедет, — откликается жена.
— Он не приедет. Метро закрыто. Денег на такси у него уже много лет не было.
— Мама, — говорит жена, — но ведь Игорь в творческом застое. Ему действительно нужно знать жизнь, знать людей…
— Теперь такие ночлеги называются познанием людей?
— Мама…
— Машенька как — спокойно спит?
— Спокойно.
— Ложись и ты. Волноваться тут нечего. — И теща свирепо заверяет: — Утречком я с ним побеседую.
Теща, коротая бессонницу, сидит в кресле и ждет — она в цветастом восточном халате. Издали, из глубины квартиры, она похожа на объевшуюся африканскую птицу.
— Даже не позвонил, — повторяет она. И на этот раз через ночь и через уснувшие городские кварталы телепатический сигнал доходит до Игоря Петровича. Раздается звонок. Теща хватает трубку: — Алло…
— Это я, — басит прозаик. — Пр-риветик вам.
Умирающая старуха Волконская полулежит в кресле.
— …Нет, мой милый. Красота — дело тонкое. У Апраксиных, что там ни говори, были грубоватые плечи — даже у женщин были плечи мужчин.
— Подумать только — я был об Апраксиных очень высокого мнения, бабушка.
— Их спасал вкус. Они умно и изысканно одевались, и, разумеется, Мари Апраксина при беглом взгляде казалась воздушной…
Пожарник Волконский помогает умирающей старухе раскладывать пасьянс. Ему скучновато. Ему с каждым годом все тяжелее поддерживать старомодный светский разговор, но он не смеет об этом даже заикнуться. Слышен шелест карт.
— А Романовы?
— Выскочки…
— Неужели им тоже не хватало в доме учителей — не верится, бабушка.
— Учителей хватало. Породы не хватало. Романовым до нас, Волконских, было далеко как до неба. — Покашляв, старуха начинает сбрасывать карту за картой. — Да, да, Романовым, в сущности, недоставало породы. Быдло, мой милый.
— И это было заметно, бабушка?
— Сразу же. Едва они открывали рот… Уже на третьей минуте разговора чувствовалось, что им недостает внутреннего достоинства.
— Романовым?!
— Да, внучек.
— Но ведь царь… Большая фигура…
Старуха презрительно смеется.
— Не смейтесь, бабушка. Царь — это все-таки… большой администратор.
— Что за слово, внучек. Фу… Кем ты служишь? Я все-то забываю, прости, мой милый.
— Я — противопожарник, бабушка.
Старуха заходится в кашле. Затем говорит сердито:
— Не раз я давала понять Романовым, что им не удержаться… Мужчина, который повышает голос, — не уверен в себе. Это во-первых. А во-вторых, мужчина, который повышает голос, явно не на своем месте.
Утро — нехорошее и гадкое. Голова у Игоря Петровича раскалывается. Поташнивает. Любви к людям нет ни на полкопейки.
— Ну-ну, — подбадривает его Светик, — похмеляйся. Не ты первый.
Он скрипит зубами:
— Противно…
— Тридцать шесть лет мужику, и все еще противно — да?
— Я не про водку. На небо смотреть противно.
— И без неба проживем. Большое дело — небо!
Игорь Петрович опрокидывает стопку. Кривит рот.
Выдыхает вчерашнее — и кривит рот еще больше.
— Светик… Зачем я все это ей наговорил? Как-никак теща. Как-никак свой человек. Близкий.
Он терзается:
— Свинство это. Ах какое свинство.
И опять терзается:
— Свинство. Гнусность… С чего хоть я начал, Светик?
— Ты начал не очень оригинально: сказал, что видел ее в гробу. Это было в два ночи.
— Ах, черт…
Они молчат. Светик сует ему в рот сигарету.
— Как же я теперь вернусь домой? — Игорь Петрович тревожно косится на постель. — А мы не…
— Нет. Не пугайся.
— Но кто же мне поверит! — слабо вскрикивает он, обхватывая руками голову: мужчина в беде. — Светик, что я еще говорил?
— Многое. Болтал про Зауралье, про медведей. Про то, что уезжаешь и вернешься не скоро. Никак не хотел заткнуться. Псих… Я пыталась забрать у тебя трубку — ты толкнул меня в грудь.
— Прости, Светик.
— Не за что. Я дала тебе оплеуху — можешь посмотреть в зеркало.
— Но что же делать? Как я явлюсь домой?
Светик моет посуду. И молчит.
— Что же мне делать?
Светик моет посуду.
— Светик!
И тогда она говорит:
— А ты не являйся. Уехал в Зауралье, вот и все.
— Но как же (на какие деньги?) я буду жить? У меня нет сбережений, Светик, у меня рубля нет.
— Будешь жить, как живут мелкие спекулянты, — хочешь попробовать?
Игорь Петрович задумывается.
— Я?.. Но…
Интересное в этом есть несомненно — написать, допустим, портрет торгаша… Увидеть его изнутри… Прочувствовать собственной шкурой. Издержки велики, но в случае удачи…
И тут, независимо от того, напишет он портрет современного торгаша или не напишет, Игоря Петровича охватывает сладкое чувство свободы.
— Я напишу моим домашним письмо — уехал! Уехал, чтобы выйти из творческого тупика.
— Правильно. И не вздумай извиняться. Это они тебя обидели — и потому ты уехал.
— Светик, а штемпель?
— У тебя нет дружков в Зауралье или в Сибири?
— У меня нигде нет дружков.
— Зато у меня их там навалом. Напишешь письмо моей подружке Гале Шориной — конверт в конверт, понял?.. А Галя перешлет твоей жене. Только не вздумай писать им часто. Одно-единственное письмо. Пусть поволнуются.
Игорь Петрович тут же берет лист бумаги и трясущейся похмельной рукой наскоро набрасывает текст.
Утро. И наконец-то солнце после полосы дождей.
— Ищи! — гневно кричит Светик в трубку. — Ищи! Должен найти.
Костька лепечет:
— Я вспомнил, что их зовут Виля и Валя, муж и жена.
— Виля и Валя — какая прелесть!
— Светик, в первых пяти цифрах телефона я уверен. Но не перебирать же мне все остальные цифры подряд?
— Почему?.. Сиди и перебирай. Запомни: пока не найдешь, где икона, я с тебя не слезу.
Светик бросает трубку. Утро. Светик принимает душ. Одевается. Затем она подходит к спящему и кричит в ухо:
— Эй, писателишка, пора вставать!
Игорь Петрович спит.
— Творец, так твою бабушку, подъем!
Но тут звонок в дверь, и Светик идет открывать, — это Фин-Ляляев. Он с сумкой.
— Есть товар? — весело спрашивает Светик.
— Есть.
Старый Фин-Ляляев усаживается и неторопливо вынимает из сумки туфли. И три пары джинсов. И еще свитер. Товар хороший.
— Запрашивай за джинсы побольше. Это ведь, Светик, для тебя интересно — излишки твои.
— Ясно.
— Но и не зарывайся в цене…
Фин-Ляляев вдруг чует, что в той комнате (в квартире две комнаты) кто-то есть. Тонкие ноздри старого спекулянта зашевелились. Фин-Ляляев говорит негромко, но с укором:
— Светлана, в доме, мне кажется, мужчина…
— Да, — соглашается Светик, — и мне так кажется.
— Ты, девочка, с места в галоп. Уже завела мужика?
— Разве нельзя?
— Можно, но… — И Фин-Ляляев заводит свою обычную песню об осторожности и о милиции. И о морали тоже — о том, что женщина должна как-никак себя блюсти. От Светика он этого не ожидал — он даже сообщает ей доверительным шепотом, что сам он в трезвом виде не изменял своей жене никогда. Ни разу.
Светик успокаивает:
— Это не случайный мужик. Это мой мужик. Он будет помогать мне в комиссионке…
— А кто он?
— Да так. Бездельник. — И Светик добавляет, чтобы совсем успокоить: — Идемте глянем на него. Будете знать его в лицо. Хочешь не хочешь, вам иногда придется общаться.
Творец спит.
— Познакомьтесь, — улыбается Светик. И двигает творца острым кулачком в бок. Тот тут же садится.
— А?.. Что?.. Зачем? — вскрикивает он. Нервная натура.
Светик говорит ему:
— Сиди спокойно. И подай руку. Знакомься.
Старый Фин-Ляляев церемонно произносит: «Здравствуйте, молодой человек», — после чего начинает важничать, впадая в роль крупного спекулянта на закате жизни — матерого, умного, отца родного для начинающих.