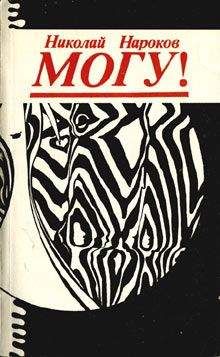Она искренно любила Табурина и считала его хорошим другом их семьи. Не сомневалась, что он очень привязан к ней и к Георгию Васильевичу. Но вместе с тем видела в нем что-то несуразное, даже комическое и любила подшутить над ним.
А он являлся чуть ли не каждый день, наполняя дом шумом и беготней, приносил с собой ненужные подарки и все старался сделать что-нибудь полезное.
— Может быть, надо куда-нибудь съездить и привезти что-нибудь? Не стесняйтесь, требуйте!
Хватал косилку и стриг газон, а потом поливал его. Собирал посуду из мойки-машины, заглядывал в холодильник и начинал возмущаться тем, что «он весь льдом напичкан, ни за чем вы не смотрите!». Ни о чем не спрашивая, принимался размораживать его, сердито ворча на то, что «в нем всякой чепухи все полки полны, а нужного-то нет!». Бегал по комнатам и высматривал: что бы еще сделать? А потом, утихомирившись, садился подле Юлии Сергеевны, несдержанно жал ей руки, смотрел ей в глаза и начинал уверять, что любит ее «неземной любовью».
Елизавета Николаевна, мать Юлии Сергеевны, хоть и возмущалась его «ересями», но очень искренно ценила его:
— Верный друг, верный! — не сомневалась она. — На него можно во всем положиться! Вот только кричит он чересчур громко и бегает по комнатам так, что буря поднимается. Даже занавески на окнах колыхаются, право!
Когда Табурин и Виктор, окончив разговор на патио, уехали, Юлия Сергеевна пошла в дом. Она полулегла на диван и стала просматривать журнал, притворяясь, будто он ее интересует. Но не выдержала и бросила его на пол.
«Конечно, все это вздор, и… и даже нехорошо все то, что он говорил!» — вспомнила она слова Табурина. Они казались ей нелепыми и недопустимыми, посягающими на что-то такое, на что нельзя посягать. Но вместе с тем ей казалось, что Табурин в чем-то прав и что она каким-то краешком с ним согласна. «Конечно, все любви разные! — говорила она себе, словно хотела в чем-то убедить себя. — И, конечно, любовь мужа к жене на десятом году совсем не такая, какая была в нем раньше, а уже другая. Большая любовь, хорошая, настоящая, но… не такая! А если придет «такая» к другой женщине, то… Ведь любовь Ромео к Джульетте не мешала ему любить свою мать, а любовь к матери не мешала ему любить Джульетту! Но все же, — вдруг спохватилась она, — это нехорошо! Это очень нехорошо! Очень!» — повторяла она так, как будто уговаривала и убеждала себя. Но слово «нехорошо» звучало пусто и ничего не доказывало, и она знала, что оно ничуть не доказывает и звучит пусто. И вдруг поймала себя: «А почему я думаю о любви мужа к другой женщине? Ведь может быть и иначе… Ведь и жена может полюбить другого человека… Не так полюбить, как она любит мужа, а иначе, но… И это ведь тоже не будет изменой! Разве это будет изменой?»
И чуть только она спросила себя об этом, как сразу взволновалась, сама не зная, что именно взволновало ее. Спустила ноги на пол и быстро встала с дивана. Зачем-то посмотрела вправо и влево, как будто хотела убедиться в том, что в комнате никого нет и никто не подслушал ее мысли, а потом, не отдавая себе отчета, почему ей этого захотелось, пошла в комнату мужа.
Георгий Васильевич сидел в своем кресле около стола и просматривал папку с чертежами. Поза его была немного странная, не совсем такая, в какой обычно сидят люди за столом: он сидел немного криво и словно бы деревянно.
С год тому назад с ним случился удар: «Кондрашка хватил!» — грустно шутил он. После удара левая часть отнялась: рука не действовала, и он ее не чувствовал, а на ногу он мог только опираться, когда стоял, двигать же ею не мог. Три-четыре шага он мог кое-как проковылять с помощью палки или костыля, но даже по комнатам передвигался в особом креслице на высоких колесах.
Он и раньше, до удара, не был сильным и крепким, а после болезни очень подался, ослабел, похудел и даже постарел. Ему было только 45 лет, а выглядел он чуть ли не стариком и, главное, сам считал себя стариком и инвалидом.
Рассудок от болезни не пострадал, и он по-прежнему вел дела своей строительной конторы, но досадовал на то, что не может заниматься ими как следует, принужден от многого отказываться, а поэтому не зарабатывает столько, сколько мог бы.
— Да закройте вы совсем вашу контору! Продайте ее к черту и живите на полном покое! — уговаривал и даже настойчиво требовал Табурин. — Нечего вам последние силы тратить! Денег у вас нет, что ли? Жить вам не на что? Нищеты боитесь? Не бойтесь, нищим не станете!
— Что вы! Как можно! — пугался Георгий Васильевич. — Я ведь не о себе, я о Юлечке думаю… Если, не дай Бог, со мной второй удар будет, так должна же она быть обеспечена!
— Да она и без того обеспечена… Не жадничайте!
— Я не жадничаю, я… Я хочу ей как можно больше оставить, как только могу больше! А с другой стороны, я и сам не могу на покой уйти. Ведь если я откажусь от работы, так что же я тогда делать буду? Пасьянсы раскладывать? Кроссворды решать? Безделье меня убьет, вот увидите, что убьет!
Сейчас он сидел в своей скорчившейся позе и вдумывался в чертеж нового дома. Кажется, все хорошо, а тем не менее ему что-то не нравится, и он не может сообразить: чего тут недостает? Что тут лишнее?
Юлия Сергеевна вошла в комнату и остановилась в дверях.
— Юлечка? — спросил Георгий Васильевич, услышав ее шаги, и тотчас же повернулся к ней. Его глаза стали нежными, а голос зазвучал мягко. — Вот и хорошо, что ты пришла… Жарко сегодня?
— Жарко, но не очень.
Чуть только Юлия Сергеевна вошла к нему, как почувствовала что-то похожее на неловкость и даже на досаду: зачем она пришла сюда? Все то, что она думала после разговора с Табуриным, еще владело ею и по-странному мешало ей. Она посмотрела на Георгия Васильевича и увидела, что он ждет: что она скажет? Сказать ей было нечего, и ей захотелось сейчас же уйти. Но она понимала, что уйти, ничего не сказав, нельзя.
— Хочешь, я отвезу тебя на патио? — предложила она, с удовольствием услышав, что ее голос прозвучал ласково.
— Не сейчас! — смотря ей в глаза и взяв ее руку, ответил Георгий Васильевич. — Мне, понимаешь ли, надо еще поработать. Тут новые чертежи, — кивнул он на стол, — и мне надо хорошенько в них разобраться.
— Зачем ты работаешь? — не строго, но с укором спросила Юлия Сергеевна. — Зачем ты так много работаешь?
— Нет-нет-нет! — замахал головой Георгий Васильевич. — Как же можно без работы? Что же я тогда делать буду?
— Отдыхать и лечиться! — улыбнулась Юлия Сергеевна. — Лечиться и отдыхать!.. Что тебе еще надо?
— А вот кончу я эту операцию с новыми домами Ива, тогда и подумаем! — охотно притворился согласным Георгий Васильевич. — А кончить ее обязательно надо. Она… Знаешь, сколько она нам даст? Вот то-то же!
— Меня даже мучает, что ты, больной, работаешь, а я, здоровая, ничего не делаю! — искренне призналась Юлия Сергеевна. — Нехорошо это, очень нехорошо!
— Что же?
Он хотел что-то добавить или объяснить, но в гостиной раздались голоса: мужской и женский. Юлия Сергеевна прислушалась.
— Это Ив со своей Софьей Андреевной!
Она скривилась, как от чего-то неприятного. Георгий Васильевич тревожно посмотрел на нее: он всегда тревожился, если видел, что Юлии Сергеевне что-то неприятно.
— Я знаю, ты их недолюбливаешь, но… — немного заторопился он. — Нет, нет! Ты относительно их ошибаешься, они оба совсем неплохие люди, очень даже неплохие! И неудобно к тому же… Пойди к ним, прошу тебя. А если Федору Петровичу нужен я, то попроси его сюда зайти.
Еще минуту назад Юлии Сергеевне самой хотелось уйти, но сейчас, когда уйти было нужно, уходить уже не хотелось. Наоборот, ей хотелось остаться с мужем. Не для того, чтоб продолжать начатый разговор, а для того, чтобы быть с ним. То неловкое и досадное, что она почувствовала, войдя в комнату, уже исчезло, и ей по-привычному стало приятно и даже радостно быть с Георгием Васильевичем. Она всегда любила быть с ним, любила сидеть сзади и смотреть, как он работает. Умела не говорить с ним в это время, не мешать ему, а только знать, что он тут, подле нее, а она вместе с ним. А после болезни стала любить это еще больше, острее и наполненнее. К прежней любви в ней добавилось новое: теплое и жалостливое, от чего у нее иногда замирало сердце, а на глазах появлялись слезы. И тогда ей хотелось сесть рядом с ним, взять его руку, положить ему голову на колени и говорить ему ласковое и нежное.
— Они, надеюсь, не надолго! — бросила она и вышла из комнаты.
Юлия Сергеевна полушутя, полусерьезно утверждала, что у Елизаветы Николаевны «несчастный характер»:
— Мама всегда и ото всего ждет дурного!
Это была правда: Елизавета Николаевна от каждого шага жизни ждала чего-нибудь дурного и не верила в хорошее. Даже в пустяках она была такой. Если с утра была ясная, солнечная погода, она недоверчиво смотрела на небо, поджимала губы и, заранее огорчась, говорила: