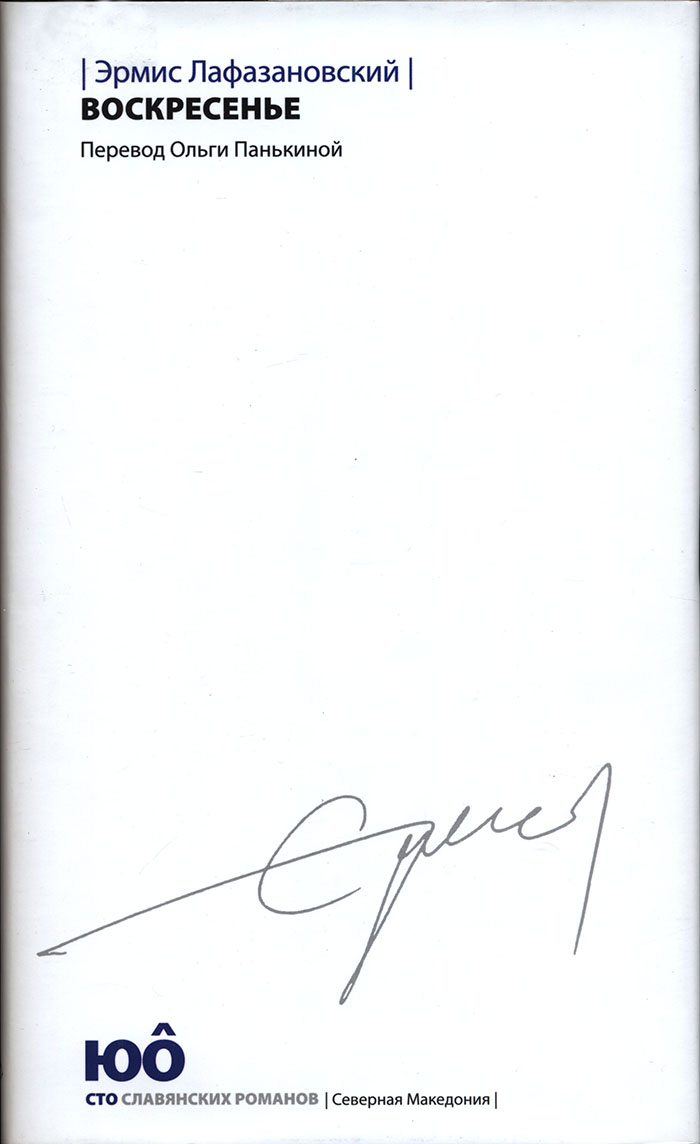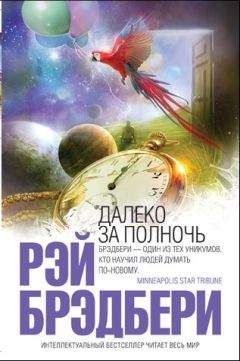По географическому положению моего места жительства и в результате общения с представителями самых разных общественных слоев на рынках, я хорошо разбирался только в турецком золоте. Но и его я давно не видел, и еще вопрос, являюсь ли я наиболее подходящим человеком для его надежного опознания.
В темноте я ничего толком не разобрал, ничего знакомого не увидел, и тем не менее у меня вдруг сперло дыхание, и я автоматически, сам не понимая почему, упал на колени. Внезапно я полностью осознал ситуацию, в которой оказался, и в испуге проклял момент, когда решил мировую дилемму худшим из возможных способов. У меня перед глазами со скоростью молнии промчалось мое предполагаемое будущее, равнозначное тьме ада.
Я упал ничком на живот и растянулся, насколько мог, пытаясь слиться с напольной плиткой. Если смотреть сверху, я, наверное, казался застреленным. Я перестал дышать. Потом, наконец, я глотнул воздух и прислушался. Ничего не было слышно, ничего не было видно. Я повернул голову влево, прикоснувшись правой щекой к холодному мраморному полу, и увидел несколько полок, симметрично расположенных в центре магазина. Я повернулся на другую щеку и увидел там, в глубине, тяжелую завесу и еле заметную дверь (или двери). Сердце у меня билось так сильно, что тело отскакивало от плитки. Потом я посмотрел наружу сквозь витрину и не увидел никого. Я сводил свои движения к минимуму, опасаясь какого-нибудь датчика, активирующего тревогу при обнаружении ползущего человека. То, что он не сработал, когда я вошел, я объяснил тем, что вошел вполне прилично, через открытую дверь, как это делает большинство честных граждан. Но если я честный гражданин, то почему я лежу на холодном полу? Если я честный гражданин, почему я так боюсь, почему не предпринимаю никаких действий?
Чтобы доказать самому себе свою честность, я решил немедленно и без всяких колебаний подойти к двери, а потом, когда она откроется, выскочить одним прыжком, а затем убежать как можно дальше. Но как я завтра докажу свою честность, если все это снимается на камеру? Я надеялся, что меня не узнают, так как я лежал на животе и в таком положении никто не мог увидеть моего лица. Я пополз к двери. Сверху я был похож на черепаху, вылезающую из моря на песок, чтобы отложить яйца.
Я по-пластунски начал приближаться к двери, но тут же замер, потому что за витриной снаружи промелькнула какая-то человеческая тень. Или мне так показалось.
Я подождал еще немного, и когда совершенно уверился, что там никого нет, и ничто не движется, я вскочил и в два прыжка оказался перед дверью, ожидая услышать спасительный шум разъезжающихся створок.
Не тут-то было!
Я выпрямился, думая, что, возможно, я недостаточно высок, чтобы сработали датчики.
Снова ничего.
Я рванул налево, потом направо, замахал в темноте руками перед стеклянными глазками датчиков над дверью, но тщетно. Меня прошиб холодный пот, когда я осознал, в какую ловушку попал, и какие последствия это может иметь для моей репутации. А с другой стороны… что мне репутация! Я попробовал еще раз, но дверь даже не шевельнулась.
— Сломана! — услышал я тихий голос позади себя.
6.
Не будь я взрослым мужчиной, человеком среднего возраста, с давно сформировавшимся твердым характером, с высокой самооценкой и огромным жизненным опытом за плечами, я бы, наверное, упал в обморок от страха, услышав этот голос.
Но вместо этого я одеревенел — замер столбом, вытянувшись перед дверью с задранными вверх руками, и не мог ни пошевелиться, ни повернуть голову налево или направо. Я чувствовал, как пот каплями стекает по позвоночнику и, промочив резинку трусов, льется вниз по щели на заднице.
Меня парализовала мысль о том, что меня открыли и что с этого момента моя неинтересная среднестатистическая жизнь, вероятно, станет интересной выше среднего.
— Если ты будешь все время тут торчать, то тебя кто-нибудь увидит, и тогда нам обоим конец, — сказал голос и приказал мне снова лечь на пол и отползти подальше назад.
Я подчинился. А что еще я мог сделать? Я снова упал на живот, повернулся и пополз по-пластунски в том направлении, откуда доносился голос. Итак, я добрался до тяжелой занавески в глубине магазина, отодвинул ее в сторону и увидел очертания обычной женщины среднего возраста, сколько точно ей было лет, я с уверенностью определить не мог, но явно больше, чем мне. Не на много, но все же. Я подполз к ней и лишь услышал в темноте металлический звук браслетов у нее на руках, брякавших, когда она задергивала занавеску.
— Понимаешь, — прошептала она, — дверь сломана и открывается только снаружи, по крайней мере, я так думаю!
Я пытался получше разглядеть в темноте едва различимые контуры ее тела, представить себе ее одежду, волосы, руки, фигуру, как она сидела, свернувшись калачиком и прижав колени к подбородку, но не мог.
Мне и потом так и не удалось этого сделать, так что я описал ее, исходя лишь из слуховых и обонятельных ощущений, дошедших до моих испуганных органов чувств и достигших моего паникующего мозга: я уловил ее дыхание, пропитанное сигаретным дымом, духи, чье качество я не берусь определить, запах пота, к которому примешивался аромат ацетона от пропотевшей одежды, звук металлических браслетов — которых у нее, по-видимому, было немало — как они позвякивают в темноте, когда она пытается даже в такой тягостной ситуации поправить прическу, и, наконец, холод ее ладони, которой она держала меня за локоть, с одной стороны это выглядело так, будто она боялась от меня отойти, а с другой — будто поймала и не отпускает.
Я отодвинулся немного в сторону, чтобы освободиться от сжимающей меня руки, и потянул ее к лучу света, падавшему снопом с потолка прямо вниз.
И тогда мы посмотрели друг другу в глаза. Или, скорее, в то, что можно было бы назвать глазами, потому что в полутьме сверкали одни только белки. На ней был периодически съезжавший парик, который она тщетно пыталась поправить — из-за того, что она сидела, прижавшись затылком к стене, он постоянно сползал ей на лоб. Я не мог точно определить ее вес, но она наверняка была тяжелее меня в то время, когда Марта перестала со мной разговаривать. Заметить это и сделать соответствующие выводы мне удалось благодаря ее белому костюму, который был ей тесен и который в темноте притягивал малейшие лучи света, исходящие извне.
Я шепчу:
— Не знаю, как вы попали в такую ситуацию, но я нахожусь здесь совсем не по тем причинам, по которым, как вы предполагаете, я здесь нахожусь.
Она шепчет:
— Не надо оправдываться, я долго наблюдала за вами, вы стояли, как статуя, перед открытой дверью магазина и совсем не колебались, войти или нет, вы просто ждали, чтобы никого не было рядом, то есть, чтобы никто вас не увидел, а потом воспользовались моментом…
Я шепчу:
— Неправда. Передо мной стояла дилемма, входить или нет, и я решил ее, поставив гражданские интересы выше своих собственных, поэтому и позволил себе войти, чтобы посмотреть, была ли открытая дверь результатом забывчивости или, может быть, речь шла о какой-либо противоправной деятельности. И в том, и в другом случае, уверяю вас, я собирался оповестить полицию.
Повышаем тон шепота:
— Что за чушь ты несешь! Давай, оповещай, и увидишь, что тут же станешь первым подозреваемым.
— Подозреваемым в чем, я же ничего не сделал.
— Ну, да, ничего не сделал, потому что дверь сломалась… а то бы…
— То, что, как вы думаете, сделал бы я, является ничем иным, как проекцией того, что вы сделали бы сами!
Она перешла на ты.
— Ты что, меня воровкой назвал?
— Я ничего такого не говорил, но все же должно быть какое-то логическое объяснение, как и почему вы оказались здесь, в этом месте… да еще при этом прячетесь за занавеской.
Она замолчала, и я не знаю, просто ли она не хотела больше ничего говорить, или ее молчание подтверждало мой тезис, что она оказалась тут таким же образом, как и я, что было более чем очевидно. Но я был полностью уверен, что ее не мучила философская дилемма, над которой размышлял я.