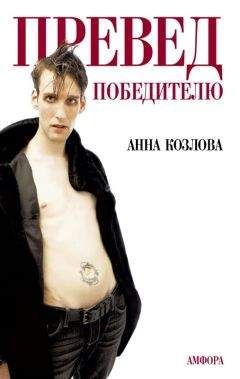Одним погожим осенним деньком, когда я еще не была беременна (или, возможно, уже была, но не знала об этом), мы договорились со Львом встретиться и выпить пива. Мне надоело ждать его звонка, и я поехала в редакцию «Дня грядущего», где под возмущенные возгласы вахтеров вытащила его прямо с летучки. По какой-то таинственной причине Лев не мог покинуть эту гребаную редакцию сразу, и сначала мы сорок минут курили на лестнице с каким-то жирным психом из «Лимонки» (через пару месяцев после родов я случайно столкнулась с ним в метро, и он, не особенно оригинальничая, предложил мне выпить пива. Я согласилась, мы, разумеется, нажрались, и он начал склонять меня к тому, чтобы ехать к нему домой и ебаться, но я потребовала, чтобы он сразу показал мне свой член во избежание дополнительных разочарований. Кажется, он обиделся, и мы расстались — надеюсь, что навсегда), а потом я ждала Льва, сидя в изрезанном бритвой кресле, из которого торчал поролон, и ко мне подошел некто Михаил Михайлович Николаев — живая легенда патриотического движения. Это был двухметровый алкаш, завсегдатай митингов, где он неизменно устраивал пьяные побоища, и за глаза его называли либо Мих Мих, либо Нико, а сам он, нажравшись, кричал, что он крестьянин с Брянщины. Он выглядел и одевался в стиле провинциального кюре, из тех, что щиплют добропорядочных фермерш за ляжки и до одурения рассказывают торговцам подержанными машинами, какие они праведники.
Этот кошмарный Нико откуда-то знал, кто я такая — судя по всему, Лев непрерывно пиздел обо мне в редакции, — и начал разговор с того, что меня обуревает гордыня.
— Почему вы так решили? — обеспокоенно спросила я.
— Я читал твои статьи, — сказал он, очевидно имея в виду «Если рядом нет русских — вы в раю».
Слава богу, прискакал Лев в каком-то ужасающем плаще с драной подкладкой и потащил меня в продуваемую ветром «стекляшку», где мы не успели выпить по кружке пива, как туда ворвался Нико и сел за наш стол. У Нико была, пожалуй, только одна хорошая черта — он непрерывно нас угощал и вообще вел себя так, как будто мы были школьниками, прогулявшими учебу и наткнувшимися в кафе на учителя физкультуры. Он заказывал пиво литрами, и после каждой кружки говорил, что у него назначена важнейшая встреча, которую никак невозможно пропустить (в финале он, разумеется, просто вырубился в «стекляшке», уткнувшись носом в пепельницу, и старший брат Льва, Ваня, смущенно отвел его обратно в редакцию). На протяжении всего нашего разговора, который с каждой новой кружкой все больше уподоблялся ругани матросов в портовом кабаке, Нико критиковал мой внешний вид, указывая на то, что я неженственна и поступаю очень неумно, одеваясь в джинсы. Я что-то вяло возражала, борясь с желанием послать его в жопу, но тут он резко отвлекся от моих джинсов и безо всякого вступления повел речь об осаде Белого дома.
Кажется, именно в тот момент мне открылась простая и жалкая история этих уродов. Нико говорил про «девяносто третий год» так, как будто в его пьяной, похабной жизни, протекавшей в сексуальных мытарствах с дворничихами и многодетными матерями-одиночками, с тех пор хоть что-то изменилось, а Лев слушал его со скорбной мордой, как бы демонстрируя, насколько значима для него эта трагическая тема. Я не могла понять, какую мысль хочет выразить Нико, потому что он рассказывал сбивчиво, повторяясь, прерывая свой монолог криками: «И входит „Альфа“!» — и в конце концов я пришла к выводу, что это говорит уже не человек, а водка, и мне никогда не узнать, куда и зачем входит «Альфа».
Самое ужасное было в том, что эти кошмарные идиоты мнили себя в чем-то причастными к осаде Белого дома, о которой уже думать забыли даже живущие в его часах вороны, и, пьяно размахивая руками, ревели о том, что «это сломило» их. Почему это их сломило, так и осталось для меня малоинтересной тайной. Полагаю, что слом в данном случае проходил по той же схеме, что и у детей, бросивших школу, потому что развелись родители, женщин, спивающихся из-за измен мужа, и легиона прочих безвольных сволочей, гробивших свой век в расслабленном пьянстве. Все эти люди, подобные Льву и Нико, который зачем-то сообщил за столом, что у него «пиписька влево», были опасны своей заражающей и фатальной неспособностью к творчеству, к тоске по красоте, к мечте увидеть этот мир таким, каким видит его Господь. Я ужаснулась в этой грязной «стекляшке», где за соседним столом хохотали армяне, тому, как, наверное, мучительна и безысходна их жизнь.
— Женщина в штанах — это позор России, — Нико снова переключился на мои джинсы.
— Почему, Михаил Михайлович? — рабствуя и одновременно желая позабавиться, спросил Лев.
— Потому что женщина в штанах — не христианка.
— Вы полагаете, что Богу в самом деле важно, как мы одеваемся, что едим, сколько раз в год трахаемся, и он вполне способен определить нас в геенну, потому что в пост мы по незнанию съели хлеб с маслом? — спокойно поинтересовалась я.
— Ты испорчена и порочна своим мусульманским прошлым, — нагло заявил Нико. — Спать с мусульманином, по Библии, все равно что принять ислам.
— Ну, я там такого не читала, — растерянно ответила я.
— А это так, — издевательски закивал Лев.
— Ну что же, — мне все это начало надоедать, — с моей точки зрения, неважно, каким именем мы называем Бога, ведь, в сущности, люди одинаковы везде.
— Нет, — настаивал Нико, — объясни, зачем ты это делала? Зачем ты ложилась в постель с врагами, которые, как жиды, обрезают себе члены?
— У них большие члены, — объяснила я.
— Какие? — не унимался Нико (ко всему прочему он очень любил обсуждать различные половые мерзости). — Сейчас мы поедем ко мне домой, я тебя трахну, и ты честно скажешь мне, у кого член больше…
Лев сидел и молчал. Он просто не сказал ни слова.
— До свидания. — Я поднялась из-за стола и вышла на улицу.
Лев выбежал за мной и тупо стоял рядом, пока я ловила машину.
— Я думал, ты тоже этого хочешь… — как-то странно оправдывался он.
— Пока, Лев, — сказала я.
Больше всего меня поражала его способность существовать в тотальной лжи, которая окружала его, как омерзительный кокон, и он не мог расслабиться ни на минуту, чтобы не выдать себя перед женой, передо мной, перед любым человеком во всем этом долбаном мире, — в конечном счете он уже не то что не отличал ложь от правды, он просто перестал видеть между ними разницу. Он жил, как вечно гонимый бездомный кот, у него не было привязанностей, он никого не любил — его душа была пуста, как пещера, в которую живое существо заходит раз в тысячу лет, чтобы заблудиться в холодной тьме и погибнуть. Он был не настолько глуп, чтобы не понимать этого, но каждый проклятый день бесконечных лет Господа нашего он задвигал эту мысль куда-то в даль своего бесплодного ума, и только в страшном, алкогольном прозрении она возвращалась к нему, как голос жертвы возвращается к убийце.
Он не мог примириться со своей пустотой, с интеллектуальной пустыней, которая царила в его мозгу и по которой, как отрубленная голова, прокатывалась лишь редкая политическая статья; он жаждал успеха и внутренне ненавидел свою роль вечного мальчика при именитом отце. Сознавал ли он, что жизнь, в сущности, кончена? Понимал ли, просыпаясь в самоубийственные предрассветные часы, что ничего не достигнет, что сгинет в ничтожестве, а старость встретит на кухне с потрескавшимися стенами, за столом, на котором будет стоять поллитра и щербатая тарелка с супом-брандахлыстом?
Он искренне считал себя честным человеком — и он был прав, хотя никогда не задумывался о том, что честность — это всего лишь облагороженная принципами трусость. Он боялся порвать с тем, что его окружало, хотя не мог не замечать тупиковость выбранного пути. Он ненавидел свою жену, он не знал своего сына («Бедный ребенок заикается на каждом слове! — сочувственно говорила мне Таисия. — Они сделали из него психопата после всех этих пьяных скандалов»), он приходил домой глубокой ночью, чтобы упасть на кровать не раздеваясь, и уходил ранним утром, трепеща при мысли о гипотетическом разводе. Он боялся предать патриархальный авторитет своего гребаного отца, который кричал на каждом углу, что он христианин почище Зосимы и растил своих детей в духе православных ценностей семьи и брака, истины и смирения, любви, всепрощения и прочей херни, обычно озвучиваемой попами, спрятавшимися за пропахшими рыбой стенами трапезной.
Он упоенно грешил каждый день. Ложась в мою постель, он снимал нательный крестик и фальшиво целовал его — очевидно, он полагал, что всевидящее око Божьего Промысла в таком случае слепнет, как один на троих глаз облапошенных Персеем сестер. Нажираясь, он рассказывал мне о том, как намерен строить храм и собирать пожертвования. Боюсь, что он и впрямь надеялся таким образом заслужить прощение. Он жил в постоянном мышином страхе, его вера в Бога была не дерзким диалогом в фаустовском стиле, а сдавленным лепетом вора, который хныкает перед смертью оттого, что попадет в ад.