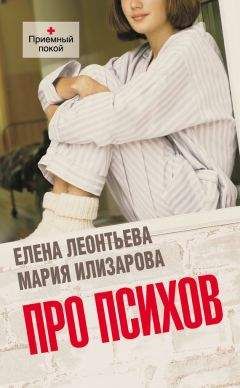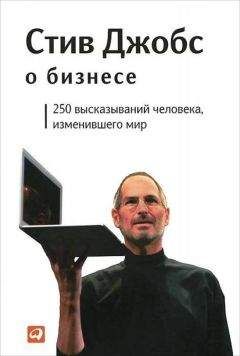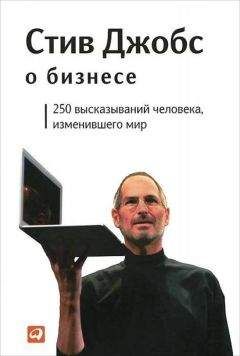– Ана, я не могу. У нас так мало времени, а я толком-то начать не могу.
– Что тебя привело ко мне, Саша? Выглядишь растерянным и взволнованным. Кажется, тебе сейчас непросто говорить.
– Да. Я запутался. Больше ничего в моей жизни не кажется мне понятным или надежным. Жена, которой я доверял, трахается с каким-то хреном из Одессы. Это такая пошлятина, мне стыдно про это говорить. На работе бардак, я давно не понимаю, что я там делаю, зачем работаю. Мне хочется сбежать, просто перестать во всем в этом быть. Это невыносимо. – Косулин сжимается в кресле, напряженно разглядывая свои руки.
– Ты перестал смотреть на меня, что с тобой сейчас?
– Мне кажется, что я ничего не могу изменить. Мне ужасно стыдно говорить тебе о своем бессилии. Злюсь, что мне вообще приходится об этом рассказывать. Женщине. Тебе. Все женщины… С ними так сложно. Они все чего-то хотят от меня. Жена – денег, дочь – решительных поступков, Агния – любви, Кукла – послушания…
– А чего, тебе кажется, жду от тебя я?
– Что я сам справлюсь со всеми сложностями. – Косулин выпалил это и замер.
Возникает небольшая пауза.
– Саша, я здесь для тебя. Мне будет жаль, если ты решишь справляться со всем в одиночку.
Косулин поднимает глаза на Ану. Она улыбается знакомой ему хитрой улыбкой, от которой у нее на одной щеке появляется ямочка. Косулин какое-то время с недоверием разглядывает ее, ее улыбку, глаза за тонкими стеклами очков. Потом не удерживается и сам начинает улыбаться в ответ.
Час пролетает быстро и легко, как бывает, когда хорошо и ты не один. Удивительно, но они говорили о детстве, о Венечке. Косулин неожиданно увидел свою жизнь как долгое путешествие с разными приключениями. Он уже много знал про дороги, про места, про себя. Много всего пережил. Ощущение течения жизни стало живым, и Косулин понял, что путь пройден лишь наполовину, что впереди много всего, что путешествие не закончено. Что он неплохо справляется и у него много возможностей. И если он не хочет что-то менять – то это не потому, что он слабохарактерный трус, а потому, что такова его воля и выбор.
Через час отдохнувший Саша Косулин был готов прервать свою паузу.
Киевский вокзал встретил Лиду невыносимо дорогими таксистами, вальяжно ожидающими своего счастья, и киоском с толстыми красными розами, завернутыми по сто одной штуке в белую оберточную бумагу. Лида гордо вспомнила о том, что в Одессе ее каждый день встречали такими букетами. А вот на вокзале никто не ждал. На утреннюю эсэмэску муж почему-то не ответил… Неопределенность тревожила. Новая любовь вскружила голову, но каникулы кончились. Дома ждала семья.
Вытащила тяжелый чемодан на перрон (в Одессе изрядно прибарахлилась). Телефон мужа упрямо не отвечал. После третьего звонка невидимая телефонная тетенька заговорила не по-русски. Лида зло тьфукнула и опасливо перезвонила. Тот же голос опять сказал Лиде про Косулина что-то важное и непонятное. По-чешски?
Подмерзающая Лида, решившая поразить Москву новыми туфельками в январе, сдалась наглому таксисту и за тысячу рэ доверила ему свой чемодан. Сначала она по привычке разозлилась на мужа: все-таки он идиот! Как он мог не встретить меня на вокзале! Неужели все понял?
Потирая ножки в теплом такси, звонила теперь уже дочери. Без ответа. Не выдержала и позвонила теще, у которой гостил Илюша. В последний момент сбросила звонок. Нет, сначала доехать домой.
Дом встретил тишиной и пустотой. Лида села на кухне, заварила чаю и ужаснулась от того, что все идет не по сценарию, многократно прокрученному в голове: она приезжает, рассказывает, как устала от недельного корпоратива, как провинциальны люди в Одессе, как все напивались и как она скучала, но ехать надо было обязательно, и скоро опять придется. Начальник очень просил.
Но ломать комедию было некому – на концерт никто не пришел. Опять принялась набирать номера. Косулинский телефон по-прежнему отвечал по-чешски – с пятого раза Лида поняла, что муж недоступен.
Слава богу, вернулась дочка, бросила сумку на пол, молоко метнула в холодильник, с матерью не поцеловалась. Внутри у Лиды все рухнуло… знает.
– Что происходит? Где все?..
– Может, мам, ты расскажешь, что происходит? Где все? Где ты?!
Жесткие дочкины слова застали мать врасплох. Договориться не получится – сразу видно: за папу будет насмерть биться. А на мать наплевать…Такая правильная – не подступиться.
– Почему ты так со мной разговариваешь? В таком тоне? Что происходит? Где папа и Илюша?
Спрятаться за статус – от бессилия… Эти трюки давно не проходят: выросла дочка.
– Где папа?! А как ты сама-то думаешь, где наш папа, факинг шит?
– Я тебя по-человечески прошу: объясни, что происходит.
– Ты сама знаешь, что происходит, лучше, чем я.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь! – Лида запаниковала, как уличная воровка, пойманная за руку. Схватила сумку, шубу и выбежала из дому. Где Саша?!
Самолет с трудом вгрызается в облачное кольцо обороны Москвы, видна полыхающая красным Ленинградка. Прямо перед посадкой Косулину опять поплохело от необходимости решать, что делать дальше.
Очевидно, надо включить телефон. И ехать домой. Лида дома уже, с ума сходит, мама обзвонилась. Но все еще страшно. Обреченно листая телефонную книжку, натыкается на номер Агнии – нет, нет, к ней нельзя. Между ними ничего нет, нечего и мечтать о желтом диване. С третьего просмотра увидел номер Паяца. Конечно, к Паяцу! Он поймет. Набрал номер, вдохнул.
Веселый голос, как будто ждал:
– О, наш беглец! Как я рад вас снова слышать! Полны пива и шпикачек?
– Да, под завязку. А я вот звоню и напрашиваюсь к вам на постой. Примете страдальца?
– Ну конечно, что вы спрашиваете!? Страдальцев – милости просим! Приезжайте, приезжайте, я дома. И водка еще есть. Желаете закуску – сварю пельмени.
– Это лучшее предложение на вечер за всю мою жизнь, Олег Яковлевич!
Параллельный входящий звонок пищал в ухе. О, началось!
Звонил Шостакович:
– Пропал ты с моими майками, Саша. Как ты, живой?
– Живой, Паш, еду к Паяцу и собираюсь напиться. Домой не могу.
– Я, чур, с вами, у меня хреновуха есть! И икра щучья. Майку взять?
– Саша, друг, приезжай, Паяц не против, я уверен.
Через пару часов сидели на теплой кухне. Паяц хлопотал в женском кухонном переднике с нарисованными луковками. Косулин привез бехеровки, Паша хреновухи, у Паяца в холодильнике мерзла модная водка. Расставили тарелки, сметанку, соевый соус (Паяц смешивал соевый соус со сметаной – с пельменями получалось вкусно), щучину, с Нового года еще остались позабытые соленья. Косулин вдыхал вкусы родины и поражался, как быстро он успевает по ним соскучиться. Три дня его не было, а радость – как из кругосветного путешествия вернулся. Вечер обещал быть долгим.
Пельмени оказались неожиданно вкусными, и водка начала свой диалог с хреновухой. Бехеровка подпевала. Слушали прощального Летова. О жене никто не спрашивал, чему Косулин был рад.
– Ну как вы, работники психиатрической промышленности, находите начало года? Вы, вообще, в конец света верите? Представьте, что это – правда, последний год, почти последняя водка, а дальше: «и убегает мой мир, убегает земля-а-а!» – запел, покашливая, Пашка.
Паяц решительно возразил:
– Ну что ты, Паша, какая последняя – еще целый год впереди до конца света твоего, успеем умереть от белой горячки.
– Кстати, алкогольное закрыли, если что, и подлечиться негде будет, – предостерег Косулин.
– Не волнуйся, подлечат. А чего лечиться-то, если все равно скоро торжественно, коллективно и предсказуемо – что важно! – помрем. – Пашка был захвачен всерьез пропагандой апокалипсиса.
– Что ты, Александр Львович, помалкиваешь, не хочешь умирать в конце года?
Косулин задумался. Чуть не всплакнул от летовского прощания, на себя примерил: «на рассвете без меня…корка хлеба без меня».
Паяц заботливо соорудил бутерброд со щучиной и налил психологу хреновухи.
Выпили, не чокаясь. Сочетание вкусов показалось Косулину добрым, сулящим прекрасное продолжение. Хреновуха расслабила, а щучина толкала на философское восприятие действительности.
– Я, друзья, не знаю, как мне дожить до конца света! Он у меня уже случился, свой, личный, ВИП-апокалипсис. Как дальше жить, я понятия не имею. Была понятная программа: женился, детей родил, добра нажил, поработал и… честно помер. А теперь что? – Косулин завис в эффектной паузе.
Паша покашлял, но ничего не сказал. К тридцати он так и не решился приступить к реализации этой понятной программы, так что оставалось только плечами пожимать.
– Что, опять все по новой? Новая жена, дети, дом. Но я не хочу! Не знаю даже, как…
Паяц, в переднике с луковками, от выпитого стал похожим на старенькую деревенскую бабушку, только платочка не хватало.
– Александр Львович, дорогой… не знаю, как тебя и утешить. У многих совсем другие программы.