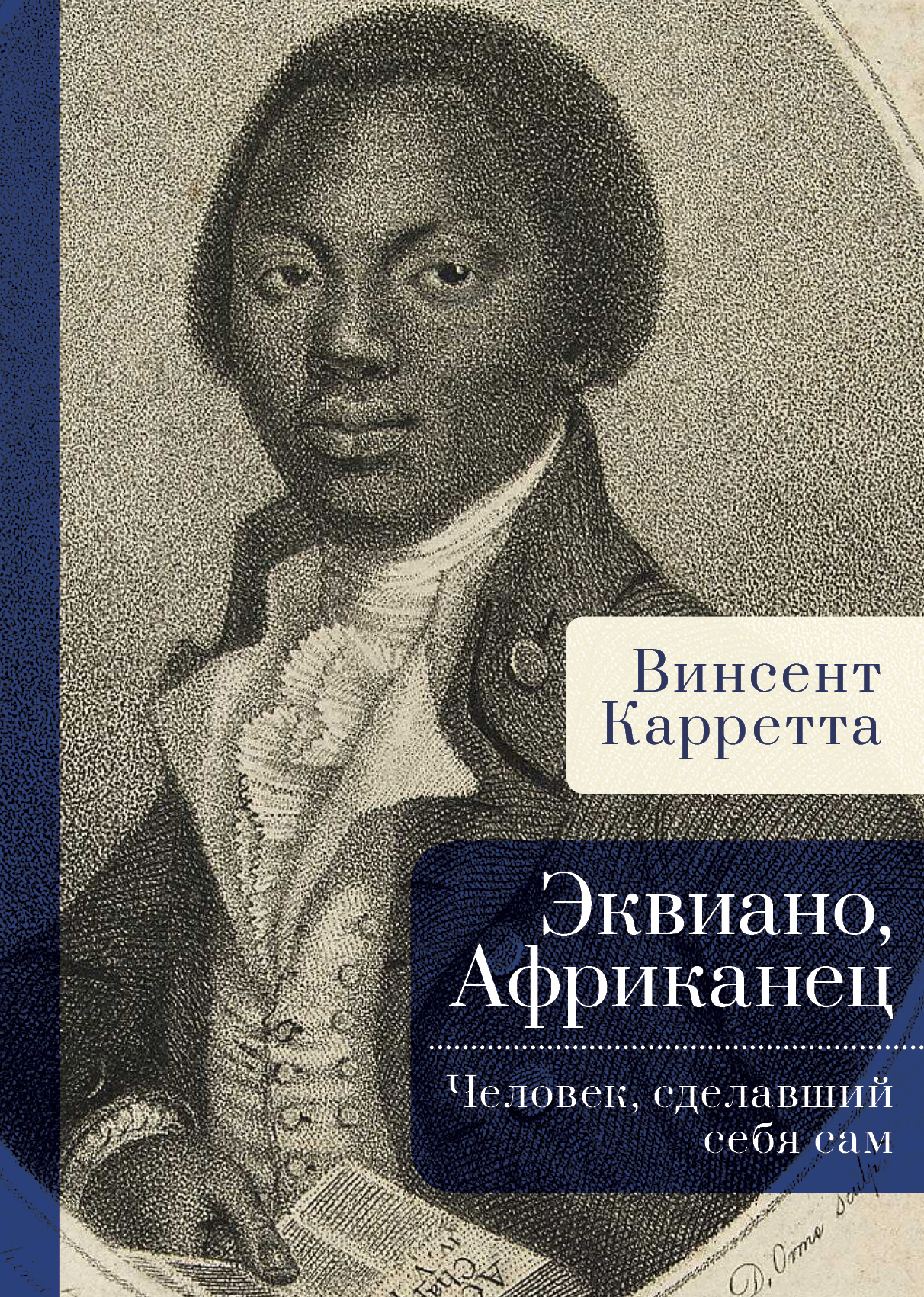– Ты в порядке? – спрашиваю я, хоть и знаю, что это глупо.
– Поехали, – говорит вместо ответа Майкл.
Машина кашляет и оживает. Я медленно выезжаю, минуя грязные лужи, а насекомые разлетаются перед нами. Когда поворачиваю на проезжую часть, дом все еще темен. Все окна потухли: фасады стекла выглядят гладкими и неподвижными, словно лицо без выражения.
Я заезжаю во двор. Па уже дома. Он сидит на крыльце, неподвижный, как качели и горшки с растениями по обеим сторонам двери; свет выключен, и он теряется во тьме, и единственное, что выдает его – это зажигалка, которую он зажигает и снова гасит, а затем снова зажигает. Когда я была младше, он курил. Сам забивал табак и делал самокрутки. Но, поймав меня за сараем раскуривающей один из его бычков, в котором табака осталось всего с кончик ногтя, он выбил сигарету и спички из моих рук, и с тех пор я больше никогда не видела его с сигаретой и не чувствовала от него привычного запаха. Как он смотрел на меня, когда та сигарета упала на землю. Широко открытыми глазами, разочарованными и страдающими. То был первый раз, когда Па посмотрел на меня так. Мне было одиннадцать, у меня начала расти грудь, а друзья из школы уже курили травку да и всякое похуже, и я хотела попробовать хотя бы сигареты, но от воспоминаний о его лице, его виде, виноватом и злом разом, мне становилось мучительно стыдно за то, что я вообще подобрала тот бычок, украла спички и закурила его, что я спряталась за сарай, где меня поймал Па.
И теперь всякий раз, когда Па думает о чем-то, но не хочет подавать виду, что беспокоится, он делает так. Щелкает зажигалкой. Огонек то загорается, то тухнет. В Килле колебалась я, а теперь уже Майкл стоит рядом понурый, словно пес на коротком поводке. Он пытается вытащить Микаэлу из машины, но к тому времени, пока он добирается до нее, Джоджо уже вылезает с ней наружу. Микаэла гладит его лицо, говоря кушать-кушать с каждым маленьким движением руки, и они уже идут к Па сквозь тьму. Мы с Майклом берем сумки, так что к тому времени, как мы поднимаемся по ступеням крыльца, Микаэла уже освобождается из объятий Па, и Джоджо несет ее в дом. Па кажется темным пятном, татуировки на его руках вспыхивают на мгновение в свете зажигалки, а потом снова гаснут. В детстве я подкрадывалась к нему и стояла рядом, когда он дремал на диване, нюхала его дыхание – пахло табаком, мятой и мускусом – и водила указательным пальцем вдоль его татуировок, не касаясь их, просто следуя за картинками: корабль; женщина, похожая на маму, одетая в облака и зажавшая стрелы и сосновую ветвь в руке, и два журавля: один для меня, а другой – для Гивена. Журавль Гивена замер в полете, едва ли не касаясь лапами болотной травы, а мой – стоит, опустив клюв вниз, в грязь. Когда мне было пять, Па указал на него и сказал: Этого я сделал для тебя. Журавли – символ удачи: если видишь их, это значит, что все в равновесии, идет добрый дождь, есть рыба и что-то копошится в болотной грязи, что травы в заливе вот-вот позеленеют. Они – символ жизни. Свет зажигалки тускнеет, и татуировки стираются во мгле. Па открывает рот, и я вижу его зубы.
– Твоя мама спрашивала о вас.
– Сэр, – говорит Майкл.
Я чувствую слова не меньше, чем слышу их, – жаркое дыхание, ласкающее мое плечо.
– Майкл, – говорит Па и откашливается. – Приятно, наверное, вернуться домой.
– Да, сэр.
– Твоя мама… – Голос Па обрывается.
– Мы подыскиваем себе местечко, – перебивает Майкл. – Уже почти.
Па снова щелкает зажигалкой, и его лицо вспыхивает. Он хмурится, а потом пламя исчезает.
Ночь темная, такая, какая бывает только в деревне.
– Это подождет до завтра, – говорит Па, поднимаясь на ноги. – Леони, иди проведай свою мать.
Мама лежит в постели лицом к стене; ее грудь неподвижна, кости ее ключицы, кажется, вот-вот порвут туго натянутую поверх них кожу: как заржавевшая решетка для барбекю над поломанным мангалом. Ее руки – одни кости, кожа да тонкие мышцы, скученные в каких-то неправильных местах: слишком далеко от локтя, слишком близко к ее горлу Она сглатывает, и я чувствую волну облегчения и понимаю, что следила за тем, дышит ли она, двигается ли она, с нами ли она до сих пор. Облегчение проходит, как быстрый дождик над горячей сухой землей.
– Мама?
Ее голова двигается чуть-чуть, затем еще чуть-чуть, и тогда она смотрит на меня слишком живыми глазами на изможденном лице. Боль зияет в ее черных зрачках, тянется, как дым, над белками. Единственное яркое, что в ней есть.
– Воды, – просит она.
Еле различимый шепот, почти неслышный за ночными насекомыми, стрекочущими за открытым окном.
Я подношу ей стакан с трубочкой, которые Па оставил для нее рядом с постелью. Мне следовало быть здесь, с ней.
– Майкл вернулся, – говорю я.
Она высовывает соломинку изо рта и глотает. Откидывает голову на подушку. Ее руки скручены на тонком белом покрывале, словно у больного.
– Пора.
– Что? – спрашиваю я.
Мама прокашливается, но ее шепот не становится громче: он все еще тих, как слишком длинные стебли трав, волочащиеся за ней по земле.
– Пора.
– Что “пора”, мама?
– Пора мне.
– В каком смысле?
Ставлю стакан на краю тумбочки.
– Вся эта боль, – говорит она и жмурится, словно хочет скривиться, но не делает этого. – Если я останусь в этой кровати, я сгорю изнутри.
– Мама!
– Я делала все, что могла. Варила любые травы и лекарства. Открылась владыкам. Святому Иуде, Мари Лаво, Локо. Но они не могут войти в меня. Тело не позволяет, – говорит она.
Костяшки ее пальцев усеяны всеми шрамами, что только бывают: от соскользнувших ножей, битых тарелок, килограммов стирки. Интересно, если я поднесу ее руку к носу и вдохну, смогу ли я учуять все то, что она заботливо помещала на свой алтарь год за годом, все, что использовала для исцеления: сушеные перцы на нитке, картошку, батат, рогоз, традесканцию, череду, подмаренник, дикую бамию. Всю зелень земли. Но, когда я нюхаю ее ладони, сухие, как наждачная бумага, чую лишь стога сена, выгоревшего на зимнем солнце. Мертвого. Она жалко сжимает кулаки. Когда я была девчонкой, она разминала мне кожу головы, когда мыла мои волосы, царапала мою голову ногтями, пока я сидела в ванной, прижав подбородок к коленям. Хочется заплакать. Я не понимаю, что она мне говорит.
– Одна осталась, – говорит она.
– Что ты говоришь?
– Последняя владыка. Маман Бриджит. Пусть она войдет в меня. Овладеет мной. Она – мать мертвых. Судья. Если она придет, может быть, она возьмет меня с собой.
– А как же другие? Как же те, которые исцеляют? – спрашиваю я.
– Я мало чему успела тебя научить. Ты не сможешь их усмирить.
– Я могу хотя бы попытаться.
Мои слова замирают в воздухе, как спущенная леска с рыболовным крючком, на который никто не клюет. Ночные жуки зовут друг друга, ухаживают, угрожают и поют, а я ничего не понимаю. Мама смотрит на меня, и на миг в ее глазах загорается надежда, далекая и яркая, как полнолуние.
– Нет, – говорит она, – ты не умеешь. Ты никогда не сталкивалась с владыками. Когда они на тебя смотрят, они видят лишь ребенка.
Я отпускаю ее руку, и мама остается неподвижной, ее глаза слишком влажные, слишком большие. Веки дрожат. Она даже не моргает.
– Ты можешь собрать мне кое-что. Мне нужны камни. С кладбища. Достаточно, чтобы сложить в кучку. И еще хлопок нужен.
Я хочу выйти из комнаты. Выйти через главную дверь. Пойти прямо к заливу, к воде, ступить на нее, на сверкающее стекло под подошвами моих ног, и идти, пока не исчезну за горизонтом.
– Кукурузная мука. И ром.
– Что, и все? Ты просто так уйдешь? Как только обратишься к этому духу? Вот так просто?
Мой голос дрожит; мое лицо мокрое.
– Почему Па не попросишь? – спрашиваю я.
– Ты мое дитя.
Она тяжело дышит – решетка трескается и опускается ниже к заржавевшей неподвижности мангала.