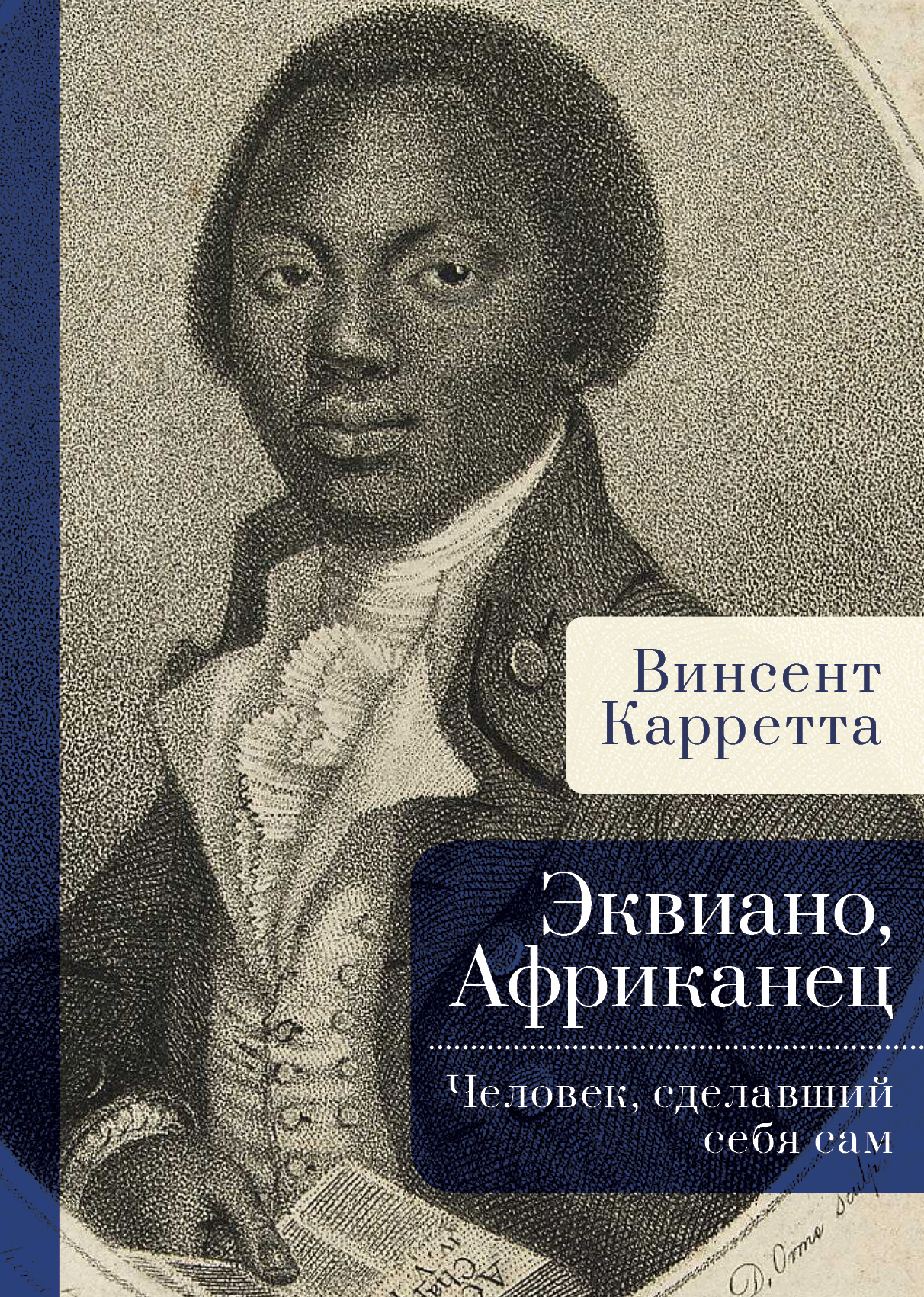– Единорог, – говорю я, определив одно. Моноцерос. – Усролпк. Лепус. – Великий Змей. Гидра. – Бык. Таурус. Официальные названия я узнал из школьной библиотеки.
Я знаю, что Леони, должно быть, смотрит на крыльцо, гадая, чем мы с Па заняты в темноте.
– Близнецы, – продолжаю я. Гемини.
Дверь в комнату Леони открывается и закрывается, и я вижу Майкла, лелеевшего Леони, когда ей было плохо. Вижу, как Леони ничего не делала, когда тот полицейский надевал на меня наручники. Ричи смотрит на меня так, будто знает, о чем я вспоминаю, а потом садится напротив нас, сгибает колени, заводит руки за спину, издает звук, похожий на всхлип, и потирает ту часть лопаток, до которой может дотянуться.
– Мои раны были здесь. Прямо здесь. От Черной Энни. И ты их излечил. Но ты ушел, и теперь ты не желаешь даже видеть меня.
Я все же кладу голову на плечо Па. Мне все равно. Па глубоко вздыхает и откашливается, будто хочет что-то сказать, но молчит. Но и не отталкивает меня.
– Ты забыл Льва, – говорит он.
Деревья вздыхают вокруг.
Мы заходим внутрь, а Ричи все еще сидит, но спину уже не потирает. Вместо этого он медленно качается из стороны в сторону, его взгляд словно надломлен. Па закрывает дверь. Я сворачиваюсь вокруг Кайлы на диване и пытаюсь лежать неподвижно, забыть о разбитом мальчике на крыльце, чтобы провалиться в сон. Мой позвоночник, мои ребра, моя спина: сплошная стена.
– Джоджо, – говорит она и гладит меня по щекам, по носу. Оттягивает мои веки. Я вскакиваю и падаю с дивана, и Кайла смеется, яркая, желтая и блестящая, словно щенок, который только что научился бегать, не спотыкаясь о собственные лапы. Счастливая. Вкус во рту такой, словно я сосал мел и облизывал ракушки, а в глазах словно какой-то мусор. Кайла хлопает в ладоши и говорит: Кушать-кушать, и только тогда я осознаю, что чую запах бекона, и понимаю, что не чуял его с тех пор, как Ма стала слишком больна, чтобы готовить. Я закидываю Кайлу себе на спину, и она цепляется за меня. Думаю, это Леони готовит, и на минуту что-то во мне смягчается, я пересматриваю все плохое, что подумал о ней накануне, и что-то внутри меня говорит: Но ведь любит. Любит. А потом я вхожу на узкую кухню, и там не она: у плиты стоит Майкл. На нем рубашка, которая выглядит так, будто она села на размер после стирки, буквы на ней выцвели: это одна из моих. Старая. Ма купила мне ее на Пасху. Он выглядит как-то неправильно, стоя у столешницы, отражая слишком много лучей утреннего света.
– Есть хотите? – спрашивает он.
– Не, – говорю я.
– Да, – шепчет Кайла.
Майкл хмурится на нас.
– Садитесь, – говорит он.
Я сажусь, а Кайла забирается мне на плечи, седлает мою шею и барабанит мне по голове.
Майкл снимает сковороду с газа, ставит ее в сторону. С вилки, которой он переворачивал бекон, капает на пол масло, пока он поворачивается, чтобы посмотреть на нас.
Он скрещивает руки, и масло снова капает. Бекон все еще шипит, и я хочу, чтобы он уже достал его и обсушил, чтобы мы с Кайлой могли съесть его горячим.
– Помнишь, как мы ходили на рыбалку?
Я пожимаю плечами, но воспоминание возвращается, как если бы кто-то вылил его на меня из бутылки, словно воду. Никаких девчонок, – сказал он тогда Леони, и та посмотрела на него так, будто он ударил ее в самое больное место. Я думал, что он тогда отступится, скажет: Да шучу я, шучу, но он этого не сделал. Было уже поздно, но мы все равно пошли на пирс и закинули удочки. Он называл меня сыном – своими пальцами, тем, как он завязывал грузила и нанизывал приманку. Смеялся надо мной, когда я не хотел нанизывать червя, даже трогать его не желал. Майкл качает в мою сторону вилкой – знает, что я вру. Знает, что помню.
– Теперь так будет чаще.
В тот вечер он рассказал мне историю. Пока другие рыбаки ловили камбалу сетями, приманивая огнями, он сказал мне: Что ты знаешь о своем дяде Гивене? Я сказал Майклу, что Ма показывала мне его фотографии, рассказывала о нем, говорила, что его больше нет, что он в другом мире, но не объясняла мне, что это значит. Сказал Майклу это потому, что это было правдой, и потому, что хотел, чтобы он рассказал мне, что она имела в виду. Мне тогда было восемь.
– Вот что значит я вернулся домой.
Майкл пробует бекон вилкой. В тот вечер на пристани он не рассказал мне, как или почему ушел дядя Гивен. Вместо этого он рассказывал мне о работе на нефтяной вышке. О том, как ему нравилось работать всю ночь, чтобы, когда восходило солнце, океан и небо становились единым целым, и ему казалось, что он находится в идеальном яйце. Как акулы становились птицами, охотясь в воде, подобно морским ястребам. Как их тянуло к рифу, который вырос вокруг вышки, как они резвились под столбами, белые в темноте, как нож под темной кожей. Как за ними следовала кровь. Как за акулами приходили дельфины, и как они прыгали из воды, щебеча, если видели, что кто-то смотрит на них. Как он однажды плакал после разлива, когда узнал, что они вымирают.
– Так, это вам с сестрой, – говорит Майкл и поднимает кусок бекона, который он до этого проткнул вилкой. Он уже бордовый и жесткий, но Майкл все равно бросает его обратно в жир.
Я и впрямь плакал, – сказал тогда Майкл воде. Ему было стыдно это признавать, но он все равно продолжил. Рассказал, как начали вымирать дельфины, как их целыми стаями выбрасывало на пляжи во Флориде, в штатах Луизиана, Алабама и Миссисипи: с ожогами от нефти, больных, с язвами, выхолощенных изнутри. А потом Майкл сказал кое-что, чего я никогда не забуду: Некоторые ученые из “Бритиш петролеум” заявляли, что это никак не связано с нефтью, что иногда такое случается с животными: они умирают по неожиданным причинам. Иногда по многу за раз. Иногда все сразу. И тогда Майкл посмотрел на меня и сказал: И когда тот ученый это сказал, я подумал о людях. Потому что люди – тоже животные. И тот взгляд, которым он на меня тогда посмотрел, сказал мне, что он думает не просто о каких-то случайных людях; он думает обо мне. Интересно, вспомнил ли об этом Майкл вчера, когда увидел пистолет, когда увидел, как тот полицейский толкает меня лицом в грязь.
Майкл вынимает бекон и бросает его на бумажное полотенце. В ту ночь на пристани казалось, что это притяжение луны, прилив вытягивал из Майкла слова. Он сказал: Моя семья не всегда делала правильные вещи. Это один из моих дурных кузенов убил твоего дядю Гивена. Не думаю, что Майкл рассказал мне тогда все. Когда Леони, Ма или Па говорили о том, как умер Гивен, они говорили: Его застрелили. Но Майкл сказал что-то другое. Некоторые думают, это был несчастный случай на охоте. Он смотал леску и собрался снова забросить. Однажды я расскажу тебе всю эту историю целиком, – сказал он. Теперь легкий запах обгоревшего бекона стелется в воздухе, и Майкл вытаскивает еще один кусок, уже угольно-черный и твердый.
Кайла хлопает в ладоши и дергает мои волосы целыми пучками, как траву.
– Я просто хочу, чтобы вы с Микаэлой знали, что я теперь здесь. Насовсем. И что я скучал по вам.
Майкл достает бекон и кладет его на тарелку. Он весь черный и обгоревший по краям. Жар и дым наполняют комнату. Он бежит к задней двери, открывает и закрывает ее, пытаясь выгнать дым. Жир шипит, затихая. Я не знаю, что он хочет от меня услышать.
– Мы зовем ее Кайла, – говорю я.
Я снимаю Кайлу, проношу над головой и сажаю к себе на колени.
– Нет-нет-нет-нет, – говорит Кайла и начинает брыкаться.
Кожа головы горит. Я усаживаю ее на коленях, но это еще больше раздражает ее, она выпрямляется, как гладильная доска, и соскальзывает с моих ног на пол. Ее вой нарастает до уровня полицейской сирены. Майкл качает головой.
– Довольно, юная леди. А ну-ка вставайте с чертова пола, – говорит он.
Размахивание дверью не сильно помогло с дымом.
Кайла визжит.
Я встаю на колени рядом с ней, наклоняюсь, прикладываю рот к ее уху и говорю достаточно громко, чтобы она меня расслышала.