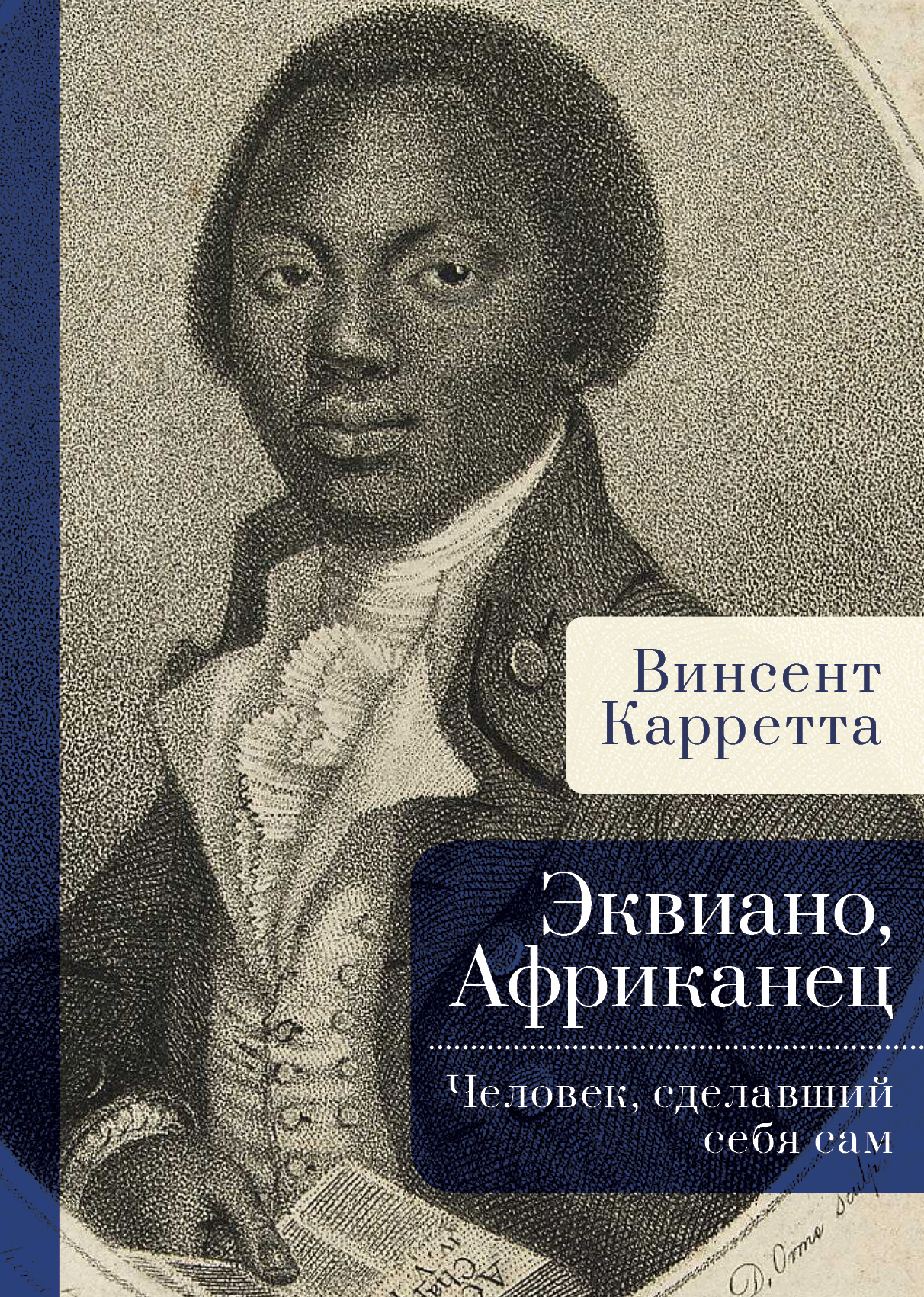– Я знаю, что ты злишься. Знаю. Знаю, что злишься, Кайла. Но мы потом пойдем с тобой гулять, хорошо? Просто сядь и поешь, ладно? Я знаю, что ты злишься. Подойди сюда. Иди сюда.
Я говорю это ей, потому что иногда между ее воплями я слышу слова, слышу ее мысли: Почему он не слушает, почему он не слушает, я чувствую! Я кладу руки ей под мышки, и она извивается и вопит. Майкл хлопает дверью, идет к нам, а потом останавливается.
– Если ты сейчас же не встанешь с пола, я тебя отшлепаю, слышишь? Ты меня слышишь, Кайла? – говорит Майкл.
Кожа вокруг его глаз и горла становится красной; он машет руками, но дым просто следует за ним, словно одеяло, в котором он запутался. От этого он краснеет еще больше. Я не хочу, чтобы он ударил ее вилкой.
– Давай, Кайла, ну, – говорю я.
– Черт возьми, – ругается Майкл. – Микаэла!
И тут он нагибается над нами, его рука резко вытягивается, отходит назад. Он отбрасывает вилку и сильно бьет Кайлу по бедру, один раз, второй, его лицо бледное и напряженное, как узел.
– Я что сказал? – Каждое слово сопровождается ударом.
Рот Кайлы раскрыт, но она не рыдает: все ее тело напряжено от боли, глаза широко раскрыты. Я знаком с этим криком. Я подхватываю ее и уношу подальше от Майкла, поворачиваю к себе, ее спина горячая на ощупь. Мое успокаивающее сюсюканье ничего не дает. Я знаю, что будет дальше. Она испускает один протяжный и оглушительный крик.
– Не надо было так, – говорю я Майклу.
Он отступает назад, трясет рукой после шлепка, словно она онемела.
– Я предупреждал, – говорит он.
– Неправда, – возражаю я.
– Слушать меня надо, – говорит Майкл.
Кайла извивается и вопит, сворачиваясь всем телом. Я поворачиваюсь спиной к Майклу и выбегаю через заднюю дверь. Кайла утыкает свое личико мне в плечо и кричит.
– Прости, Кайла, – говорю я, как будто это я ее ударил.
Как будто она может услышать меня сквозь плач. Я гуляю с ней по заднему двору, повторяя это снова и снова, пока солнце не поднимается выше в небе, опаляя нас, превращая грязные лужи в пар. Выжигая землю досуха и обжигая меня и Кайлу: превращая ее кожу в арахисовое масло, а мою – в ржавчину.
Я извиняюсь до тех пор, пока она не успокаивается и не начинает икать, пока я не понимаю, что она точно меня слышит. И я жду, жду, пока ее маленькие руки не обнимут мою шею, а голова не опустится мне на плечо. Я так упорно жду этого, что даже не вижу мальчика, глядящего на нас из тени высокой, многорукой сосны, пока Кайла не тянет меня за рукав и не говорит: Нет, нет, Джоджо. В ярком свете дня его укрывает тень: прохладная темная вода болота, цвет грязи – теплой и слепящей. Он двигается, составляя единое целое с тьмой.
– Он кормит свиней. Твой Па.
Я с силой выдыхаю воздух через нос, надеясь, что он не примет это на свой счет. Что он не примет это за желание говорить, и за нежелание – тоже.
– Он меня не видит. Как так, почему он меня не видит?
Я пожимаю плечами. Кайла говорит: Кушать-кушать, Джоджо. В доме тихо, и на секунду, внезапно поразившись собственной глупости, я задаюсь вопросом о том, почему Леони и Майкл не ругаются из-за того, что тот ударил Кайлу. И тогда я вспоминаю. Им все равно.
– Ты должен спросить его обо мне, – говорит Ричи.
Он выходит из тени, словно пловец, выплывающий на поверхность вдохнуть, сверкая на свету. А на свету он всего лишь худощавый мальчик со слишком узкими костями, без положенного жира, который весь выжжен. Он даже может вызвать жалость, пока его глаза не расширяются, и я сжимаю Кайлу так сильно, что та вскрикивает от боли. Его лицо поджимается от голода и желания.
Я качаю головой.
– Для меня это единственный способ уйти.
Ричи останавливается, глядит в небо.
– Даже если он больше не желает знать меня, не заботится обо мне. Мне нужно, чтобы история продолжалась.
Его афро такое длинное, что походит на испанский мох.
– Так говорит змеептица.
– Что? – переспрашиваю я и сразу же жалею об этом.
– Здесь все по-другому, – отвечает он. – Слишком много влаги в воздухе. Соли. И запаха грязи. Точно, – продолжает он, – рядом точно вода.
Я не понимаю, о чем он говорит. Кайла говорит: Внутрь, Джоджо, внутрь.
Ричи смотрит на меня так, будто видит меня таким, каким я видел его. Как Па смотрит на свинью перед закланием, оценивая мясо. Он кивает.
– Заставь его рассказать тебе эту историю. Когда я буду рядом, – говорит он.
– Нет, – говорю я.
– Нет? – повторяет он.
– Нет.
Кайла издает тихие мурлычащие звуки, дергая меня за уши. Есть, Джоджо, – просит она.
– Хватит и того, что мы вернули тебя. Привели сюда. А если Па не хочет рассказывать эту историю? Что, если он не хочет об этом говорить?
– Неважно, чего он хочет. Важно, что нужно мне.
Я покачиваю Кайлу. Поворачиваюсь, и мои ноги утопают в заболоченной траве. Рядом мычит корова, и я слышу: Прохладно, и время зеленого пришло. Новой травы. Я останавливаюсь, обернувшись наполовину, снова вижу его сверкающие яростью глаза.
– Если я правильно понял твою историю, ты собираешься уйти, верно? Ты исчезнешь?
Мой голос вздрагивает, становясь высоким, как у девочки. Я откашливаюсь. Кайла дергает меня за волосы.
– Я сказал тебе, что иду домой, – говорит Ричи.
Он делает шаг ко мне, но не раздвигает траву, не тонет в грязи, и его лицо сморщено: словно скомканный лист бумаги, смятый шарик, скрывающий слова.
– Ты не ответил.
– Да, – говорит он.
Его ответ недостаточно конкретен. Если бы у него были кожа и кости, я бросил бы в него чем-нибудь. Поднял бы кусок кирпича из-под ног и швырнул бы в него. Заставил бы его сказать, как есть. Но он ничего не говорит, и я не хочу дать ему повод изменить решение, оставаться рыскать вокруг дома, подкрадываться к животным, прибирать к рукам весь свет вокруг, отражая его неправильно, как кривое зеркало. Каспер, соседский черный кудрявый метис, выбегает из-за угла дома, застывает на месте и принимается лаять. Ты неправильно пахнешь, – слышу я. – Змея плывет. Быстрый укус! Кровь! Ричи, вытянув руки ладонями вперед, отступает назад в тень.
– Хорошо, – говорю я.
Позволяю лаю Каспера развернуть меня прочь. Знаю, что пес держит его у дерева, и я могу спокойно подняться по ступенькам в дом, чувствуя, как глаза Ричи сжимают мои плечи: между нами натянутая до предела, острая как бритва линия.
Бекон лежит на тарелке, выстеленной бумажными полотенцами. Сажаю Кайлу на стол и разбираю мясо, отделяя еще немного липкие части, еще немного коричневые. Даю ей мясо кусками. Она съедает так много, что мне остаются только обугленные крошки. Я даже не могу их съесть, поэтому выплевываю их и вместо этого делаю нам бутерброды с арахисовым мае-лом и вареньем. Майкл и Леони сидят в ее комнате, дверь закрыта, разговор доносится до меня приглушенным мурлыканьем. В комнате Ма все еще темно, жалюзи закрыты. Я захожу и открываю их, ставлю в окно вентилятор и включаю его на низкие обороты. Воздух движется. Кайла ходит вокруг постели Ма и поет одну из своих бессмысленных песенок. Ма шевелится, ее глаза приоткрываются. Набираю воду из крана и ставлю в стакан трубочку, подношу ей попить. Она держит воду во рту дольше обычного, раздувая щеки, как воздушный шарик, но потом все же глотает. Когда вода опускается по ее горлу, лицо Ма искажается, как будто ей больно.
– Ма? – спрашиваю я, подтягивая стул к постели, кладя подбородок на кулаки и ожидая, что она положит руку на мою голову, как всегда делала.
Но ее рот дрожит, на лице появляется грустная улыбка, и она не двигается. Я поднимаюсь и задаю вопрос, надеясь, что он замаскирует боль за моей грудной клеткой, которая крутится там, как щенок перед тем, как улечься и уснуть.
– Как ты себя чувствуешь?
– Не очень, милый.
Она шепчет, и я едва слышу ее на фоне бессмысленной песни Кайлы.