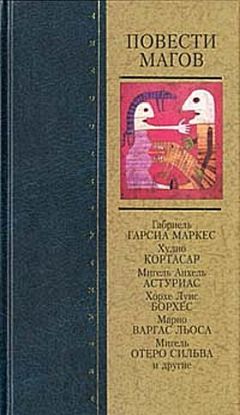Ознакомительная версия.
Теперь профессор Трубецкой пил чай с вареньем, замирая от мысли, что через пять-десять минут можно будет отставить чашку и, выплюнув на блюдечко темно-красную вишневую косточку, крепко обнять — наконец-то обнять ее всю, — залезть обеими руками под блузку, растегнуть лифчик, скользнуть по спине вниз ладонью, услышать: «Сейчас, подожди!» и, натыкаясь на мебель, уже не видя, не слыша, не различая, не разнимая губ, дойти вместе с ней до дивана.
Потом, уже ночью, диван полагалось разложить и превратить в двуспальную постель, так что Алечка, который всегда просыпался рано утром, мог прибежать к ним в своей байковой застиранной пижамке, с озябшими босыми ножками, нырнуть к ним под одеяло, улечься в середке, и они оба, с двух сторон, обнимали его, дыша этим детским, ореховым запахом.
Все это было настолько привычным для профессора Трубецкого, настолько родным и естественным, что даже мысль о его большом и неуклюжем американском доме, где дует от пола, а с близкой бензоколонки доносятся хриплые чернокожие голоса, — сама эта мысль в нем погасла, как спичка.
…
Любовь фрау Клейст
Если бы только не болело так назойливо там, где она не успела еще заколоть свои поредевшие ярко-золотые волосы, если бы не эта настойчивая боль, она бы была уже счастлива. Ее уносило, тянуло, тянуло, ее уносило, тянуло, ее распрямляло, тянуло, и все ощущение было похожим на то, как когда-то, в их с Фридрихом детстве, они над обрывом встречали грозу. Сейчас она тоже спешила за Фридрихом, она торопилась к обрыву, и Фридрих, почти неприметный, кричал ей: «Скорее!», поскольку начнется гроза, и они все пропустят.
Нужно было успеть постоять над обрывом, зажмурившись, над самым краем его, в ожидании сильного ветра — столь сильного, что все вокруг гнулось, ломалось, трещало. Да, все вокруг гнулось, трещало, а они стояли над обрывом, зажмурившись, и Фридрих для пущей лихости подходил так близко к самому краю, что мелкие камни в своем детском страхе звенели, спеша, и катились, катились, а они все стояли — кто дольше, кто первый раскроет глаза, — потом наступал спелый дождь с ровным шумом.
Она чувствовала, что спешит к обрыву, и чем ближе был этот обрыв, тем ей было светлее.
Самым темным пятном в охватившем ее со всех сторон свете была она сама, и вместе с неприятной, хотя и не сильной болью, которая ей все пыталась напомнить (о чем-то напомнить) и не отпускала! — вместе с этой болью ее темнота — сгущение в одном только месте среди моря света ее, фрау Клейст, Греты Вебер, — ужасно мешала.
Она знала, что, если Фридрих, и так еле-еле заметный и сам очень светлый, испугается того, какая она темная и неподвижная, он не станет ее ждать, и нельзя упускать из виду очертания его очень худого, знакомого тела, которое не было съедено птицами, не было (напрасно рыдал дядя Томас), оно сохранило свою угловатость, свою худобу и знакомость, нельзя упускать его ни на мгновение.
Постепенно боли становилось все меньше, и, главное, она начала чувствовать впереди себя не одного только Фридриха. Они были все там. Она их не видела, но узнавала по мелким, горячим и нежным подробностям каждого. Она узнала мать, которая привычно и рассеянно погладила ее по лицу своей суховатой ладонью, потом — постепенно — отца (он опять сильно кашлял!), потом дядю Томаса, который совал ей какой-то конверт, какой-то коротенький листик бумаги и все умолял прочитать, что там пишут, а ей было страшно читать извещение — она уклонялась, она отступала.
Потом стало очень тепло и запахло жасмином.
Опять этот белый жасминовый куст. Фрау Клейст не видела его, но, возможно, оттого, что тогда, тридцать шесть лет назад, она так долго и внимательно изучала, лежа с ледяным пузырем на животе, простые прозрачные эти цветочки, так долго глядела в их пеструю жизнь, что ей и сейчас тоже стало казаться: опять ослепительно-белый огонь, опять это марево, солнечный полдень.
Почти прошла боль, но кто-то держал ее голову, и весь сгусток боли, который еще оставался, теперь помещался внутри головы.
Фрау Клейст пыталась просить, чтобы ее отпустили, потому что там, где голова смыкалась с чужими руками, — там было темнее, больнее всего, но звук ее слабой гортани и тонкий прерывистый клекот, который теперь заменял ей язык, почти не был слышен.
Машина «Скорой помощи», вся в красных огнях, с диким воем остановилась перед домом, и два санитара в очках, похожие, как манекены в витрине, вбежали к ней в комнату. Они быстро измерили давление, послушали сердце и стали готовить носилки.
— Вы кто ей? Вы сын? — спросили они у Церковного.
— Я? Нет. Я не сын.
— Вы поедете с нами?
Она услышала слово «сын» и вся задрожала от нежности. Ах, вот как! Он был ее сыном. А то: Гретхен, Гретхен… Никто никого не убил, одни слухи. И Альберт был сыном… потом выпал снег.
26 марта Вера Ольшанская — Даше Симоновой
Мы с тобой проживаем как будто бы одну жизнь, только с разных концов. Помнишь задачку про пешехода А и пешехода Б, которые вышли навстречу друг другу? Вот так же и мы.
Ты была права, когда спросила меня, как же я не понимаю, что Гриша остался в Москве с этой бабой, поскольку ей скоро рожать. А я, которая все двадцать лет жила с одним мужем, я все еще не понимала, как можно иметь параллельные жизни.
Никогда не говорила тебе, никогда не смела сказать, что эту — Андрея жену — мне всегда было жаль. Тебя он любил. То есть любит. А жить с нелюбовью, как я прожила этот год? Да я бы и дальше жила, если честно. Ты скажешь: достоинство, да? Слова это все! Я бы затолкнула в себя эту историю глубоко-глубоко, я бы ее утоптала, утопила в себе, и место бы заровняла, и траву бы посадила на этом месте. И я бы не пикнула! Страшно одной. Ведь есть еще старость. Не только ведь смерть.
26 марта Даша Симонова — Вере Ольшанской Я знаю.
…
Любовь фрау Клейст
Еще до того, как приехала «Скорая помощь», он знал, что она умерла. Она умерла у него на руках, а эти последние всхлипы и хрипы, последний гортанный, тихий клекот, к которому он пытался прислушаться, как всегда в своей прежней практике привык наклоняться к губам умирающих и слушать последнюю дрожь их дыхания, — все это уже было смертью.
Еще до того, как приехали санитары, он видел наступление на ее лице того ярко-розового, почти молодого, страдальческого жара, который охватывает человека, когда ему нужно идти, уходить, и он, как дитя из пеленок, стремится наружу. Она глубоко — реже, реже — дышала. Лицо было красным. Она вырывалась, ей было пора. Ее высвобождение происходило на его руках, и правая его рука, обхватившая ее поперек тела, запястьем легла ей на сердце.
Сердце колотилось прямо под его рукой, и эта телесная связь, которая возникла между ними в последние пять-шесть минут, пока не вошли санитары, была благодарней всего, что возможно представить.
Она лежала в его руках, испуганная, с ее замирающим радостно сердцем, она уходила из рук, из объятий, и старость, в которой она жила долго, проклятая старость с сухой ее кожей, — она уходила еще торопливей.
Когда вой сирены замолк рядом с домом, и стекла снаружи зажглись светло-красным и синим и санитары уже бежали по коридору с тяжелыми носилками, он убрал с ее груди свою правую руку, и осиротевшая, обедневшая рука его ощутила ту пустоту, которая сопровождает всякого — будь то тело, рука, волосок или весь человек, все его существо, — когда разлучается плоть с другой плотью.
* * *
Во глубине своей, на первый взгляд запутавшейся, а на самом деле весьма даже умной и чуткой души профессор Трубецкой понимал, что быть столь счастливым, как он, неуместно и, может быть, стыдно. Он жил на чужие, одолженные деньги со своей незаконной женой и греховно прижитым ребенком.
Каждое утро он просыпался на жестком разложенном низком диване и сразу слегка задыхался от счастья. Незаконная жена к моменту его пробуждения уже вставала и тихо кормила на кухне ребенка. Он слышал ее очень ласковый голос:
— Опять ты не ешь ничего! Ты же нас огорчаешь! Что папе-то скажем?
И хотя профессор Трубецкой, прожив большую часть жизни в Америке, никогда не огорчался, если его дети чего-то там вдруг не съедали, сейчас лежал и, серьезно прислушиваясь к голосам на кухне, чувствовал, что это и впрямь очень важно: пускай доедает.
Вообще было все очень важно. У Таты на груди появилась маленькая коричневая родинка, которая, скорее всего, не представляла никакой опасности, но профессору Трубецкому хотелось разволноваться, навести справки о том, как попасть к хорошему дерматологу, самому позвонить этому дерматологу, представиться, сообщить, что у его жены появилась на груди маленькая родинка, которой совершенно не было заметно три с половиной месяца назад, назначить время визита, пойти вместе с нею — короче, исполнить с готовностью то, что с большим принуждением исполнил бы он в своей главной жизни.
Ознакомительная версия.