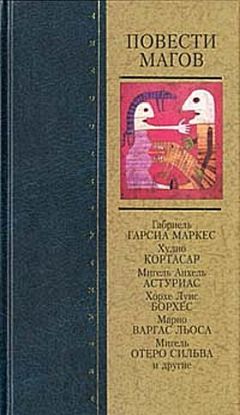Ознакомительная версия.
Он чувствовал, что в этом нет никакой его вины, но есть, безусловно, беда. Не только его одного, но и всех их. Возможности исправить эту беду он не видел, но не видел и причины, почему сейчас, когда он внутри этой жизни, любимой, он должен быть тоже несчастлив. И он наслаждался и плавал в блаженстве.
Поэтому когда на четвертый день безмятежной радости Тата, покрывшись красными пятнами, сказала, что им нужно серьезно поговорить, профессор Трубецкой расстроился и испугался. О чем говорить, когда все так прекрасно?
— Адрюша, — сказала она, испуганно и нежно глядя на него и все больше краснея. — Адрюша, я так не могу, я боюсь. Я смертельно устала.
— Ну, ты отдохнешь, — забормотал он. — Конечно, зима — это ужас, а дача…
— Не дача! При чем здесь какая-то дача! — вскрикнула она и испугалась, что разбудит Алечку, и закрыла рот ладонью.
Профессор Трубецкой убито смотрел на нее исподлобья.
— Адрюша, при чем здесь какая-то дача? — шепотом повторила она. — Жизни у нас никакой нет! У нас же нет жизни!
— Ну, как же? — забормотал он, растерянно обведя толстой рукой вокруг себя, чтобы она увидела, что жизнь у них все-таки есть. — Ну, хочешь другую квартиру?
— Квартиру? — горько усмехнулась она. — Я человека хочу рядом! Я боюсь одна, Адрюша. — Он хотел было возразить, но она перебила его. — Ты думаешь, я ничего и не знала? — И слезы полились по ее худым осунувшимся щекам, которые он так любил целовать. — Я знала ведь все. Портнова ко мне приходила.
Он ахнул.
— Да это неважно, неважно! Она приходила якобы спросить, как нам понравился тот доктор, которого она рекомендовала летом. Сказала, что потеряла мой телефон, а адрес у нее остался. А потом она прислала мне копию того письма… — Тата запнулась. — Того письма, которое послала тебе на кафедру. Так что я все знала, и когда ты начал говорить, что, может быть, не сможешь приехать, я знала, в чем дело. Ведь в этом, Адрюша?
Профессор Трубецкой кивнул.
— Ну, видишь! А ты ничего не сказал!
— Но как же я мог?
— Ты и дальше не сможешь. — Она захлебнулась слезами и принялась судорожно сглатывать их, положив на горло левую ладонь. — Но дело не в этом!
— А в чем? — глядя в пол, тихо спросил он.
— В нем. — Тата кивнула на дверь, за которой посапывал Алечка. — Я его одна не вытяну. Когда ты улетаешь от нас, я потом целый месяц хожу больная. Я ничего делать не могу. Даже на него нет сил. А он знаешь как плачет? Он залезает под душ и стоит там часами, рыдая. Под душем. Как взрослый. Он очень не хочет, чтоб я это слышала.
— Что ты предлагаешь? — пробормотал профессор Трубецкой.
— Не знаю! — Она опять вскрикнула и опять зажала рот рукой, оглянувшись на дверь. — Я вижу, что это не жизнь!
Он молчал.
— Адрюша, — быстро, но не сбиваясь заговорила она и умоляюще протянула к нему обе руки. — Ты пойми меня! Я ведь о нем думаю! Мне же его поднимать! Откуда ты будешь брать деньги? А если они тебя выкинут?
«Боже мой, она и это знает!» — быстро подумал он.
— Ты на нас тратишь не меньше пятнадцати тысяч в год вместе с твоей дорогой, и поэтому мы пока можем жить. Но если они выкинут тебя или если что-то другое случится и ты не сможешь к нам приезжать? Тогда что с ним будет? Ведь я не смогу заработать, Адрюша! А он ведь совсем еще маленький!
— А как же другие? — не отрывая взгляда от трещинки на паркете, спросил профессор Трубецкой.
— У других есть помощь. Родители, муж… Я не знаю…
— Ты что, замуж хочешь? — криво пошутил он.
— Я ничего не хочу, — твердо сказала она и тыльной стороной ладони вытерла слезы. — Но я не имею права думать о себе.
Глаза ее вдруг стали какими-то мутными и белесыми от боли. Профессор Трубецкой чувствовал, что еще немного — и он разрыдается.
— За мной тут ухаживает один человек, — тусклым, безразличным голосом сказала она. — Он концертмейстер, часто ездит за границу. Хороший человек. Вдовец. Очень любит Алю. Живет вдвоем с матерью, я ее знаю.
— Ты что? — прошептал профессор Трубецкой, ловя открытым ртом воздух. — Ты сошла с ума! К-к-какой еще, к черту, вдовец, конц-ц-ц— ентмейстер? — Он схватил ее за плечи и начал легонько трясти. — Ты с ним… Ты с ним спишь?
Она изо всех сил замотала головой:
— У нас ничего… никогда… Адрюша!
Профессор Трубецкой вскочил и начал быстро ходить по комнате, вцепившись обеими руками в волосы по своей привычке.
— Откуда я знаю? — бормотал он, не глядя на нее. — Откуда я знаю?
— Но я же тебе говорю! — низким, сорванным голосом прорыдала Тата. — Ведь я же тебе говорю! Ты мне веришь?
— Бред, бред! — застонал Трубецкой и, опустившись на корточки, дрожащими ладонями развернул к себе ее мокрое лицо. — Ты что говоришь? Ведь у нас же семья!
— У нас не семья! Мы — семья две недели в году!
— Так. — Он встал и опять начал ходить по комнате. — Я жить без тебя не могу. Значит, выход один.
Она в страхе следила за ним своими мутными мокрыми глазами.
— Какой у нас выход?
— Жениться, — резко сказал он. — У нас только один выход.
Она всплеснула руками:
— Адрюша! Ты что говоришь!
Но глаза ее просияли, и все лицо осветилось.
— Я тоже истерзан, — сказал профессор Трубецкой. — Ты хочешь, чтобы я с ума сошел там , — он неопределенно махнул рукой в сторону, — зная, что ты здесь собираешься замуж за концертмейстера? Ты права: у меня есть прямые обязанности перед ним. — Он посмотрел на дверь, за которой спал Алечка. — И я не хочу рисковать. Я не могу рисковать своей, — он судорожно вздохнул, — любимой семьей. Вот так вот и все: не могу. И не стану.
— А как же тогда… — сияя глазами, пробормотала она и вся покраснела. — А как же ты там… Что же будет?
— Предоставь это мне, — строго, не глядя на нее, сказал профессор Трубецкой. — Я должен продумать, решить. Я не мальчик.
И только он выговорил это, сердце его заколотилось в страхе.
29 марта Даша Симонова — Вере Ольшанской
Конечно, она никому ничего не сказала. Свидетелей нашей встречи — никаких, кроме лошади и женщины. Но чувство такое, что вскрылся гнойник и часть нашей лжи все же вытекла, ее стало меньше, дышать нам обеим свободнее. Правильно, что она не открыла мне дверь: это уравняло нас. Я знала, что она меня слышит и пьет каждое мое слово, и каждое мое слово убивает ее.
Я не мстила ей, я просто говорила ей то, что есть — с моей стороны. А она молчала и слушала и этим объясняла мне то, что есть с ее стороны: как она продержалась все эти годы, стиснув зубы, волоча по земле их сгнившую жизнь, прикрывая от запаха гнили своих этих дочек и тут же беря их в союзницы, защищая их и защищаясь ими от него, их отца. И так же, как я, ничего не сумела, никого не уберегла, и особенно Нину, и прибежала к ней на крыльцо для того, чтобы обвинить ее и свалить на нее этот ужас, так же и она не впустила меня, не произнесла ни слова и этим дала мне понять, что боится, не знает секунды покоя, что я виновата в ее этой пытке и что она будет терпеть до могилы.
Куда уж понятнее? Мне несколько дней назад снилось, как будто мы сидим с ней у огня — у какого-то лесного костра, — себя я не видела, а ее видела очень отчетливо, особенно поседевший, незакрашенный затылок и эту всегда чуть пригнутую шею. И будто мы обе с ней ждали возвращения откуда-то наших детей и обе говорили об этом. А потом я увидела, что мне приносят вещи, которые я прижимаю к животу, боясь догадаться о том, что это значит, боясь признаться самой себе, что это вещи моего ребенка (какого ребенка , не знаю, не Нины!), и она тоже в ужасе ждет, что и ей принесут то же самое, и тоже боится взглянуть на меня.
30 марта Вера Ольшанская — Даше Симоновой
Я думала, что приеду домой и начну выталкивать его из себя, забывать, помнить буду только то, какой он теперь старый, согнувшийся, на костылях, как он ужасно предал меня, и буду успокаиваться постепенно, займусь делами, вернусь на работу (они меня зовут), и все это наладится — конечно, не сразу, но все же наладится, ведь налаживается у других — а ничего не получилось. Ничего у меня не выходит. Больше тебе скажу: во мне разрастается какой-то даже страх забыть то хорошее, родное, что было у нас, и я это все выцарапываю теперь ногтями из памяти.
Мне кажется, что и с ним происходит что-то подобное, что теперь, избавившись от меня, перестав мне лгать, он избавился и от того тяжелого чувства, которое я у него вызывала не тем, какая я, а тем, каким ему приходилось быть со мной внутри этой лживой двойной его жизни.
Наше прошлое вдруг осветилось каким-то странным, болезненным и грустным светом, как будто бы оба мы умерли и теперь издалека смотрим на себя самих прояснившимися глазами. Злобы на него — почти никакой, о его любовнице я стараюсь не думать, и, как это ни странно, сейчас у меня получается. Мое состояние настолько неожиданно, что я все боюсь, как бы оно вдруг не перегорело и не наступил бы опять ад моей ревности.
Ознакомительная версия.