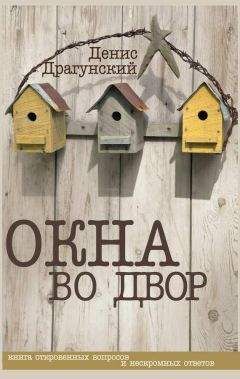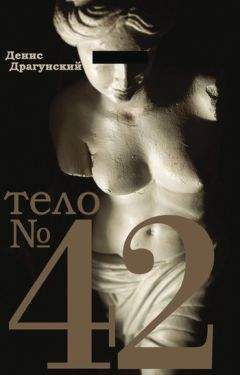Настя открыла дверь, глядя в сторону.
– Опять ключ забыл? – сказала она.
– Нет, – сказал Саша. – Просто. Настя вздохнула и пошла в кухню.
– А кого я сейчас встретил, – вдруг громко и весело сказал он.
– Кого? – Она остановилась, обернулась.
– Кочержицкого. Да, да! Представь себе!
– Где? – спросила она.
– В Манеже, представь себе. Зашел на выставку, и прямо у входа…
Саша Максимов был художник по интерьерам, а Кочержицкий был председатель худсовета в Комбинате, и от него зависело, дадут ли Саше серьезный большой заказ, там был конкурс, и уже ясно было, что заказ опять уйдет к кому-то другому, три месяца эскизов опять коту под хвост, и опять эскизы, и усталое горестное молчание Насти, и вермишель с жареным луком, но!
Но! Но вот сегодня произошло чудо, он случайно встретил Кочержицкого, тот оказался милейшим мужиком, но не это главное, а главное – эскизы приняты, заказ дадут, железно, на этой неделе все будет подписано, и ура, наконец-то.
Настя смеялась, и поздравляла, и обнимала его, и они достали последнюю из старых запасов бутылку и сберегаемую на новый год сырокопченую колбасу, и пили, и смеялись, и строили планы, и им было хорошо, и они потом заснули, мокрые и горячие.
Вернее, Настя заснула, а Саша лежал, смотрел в потолок и думал, что это, конечно, глупо – так по-детски врать. Но он не мог больше терпеть тоску и злость, мрак и молчание, немой укор и полный тупик. Пусть неправда, пусть на три часа, зато весело и ласково. А завтра что-нибудь да будет. Война или революция, например. Или в самом деле Кочержицкий даст заказ. Бог все видит. А если Бога нет, так вот есть окно. Седьмой этаж.
От этой мысли ему стало совсем спокойно, и он заснул.
Когда он стал дышать мерно и чуть всхрапывая, Настя открыла глаза. Она сразу поняла, что Саша врет. Ну и что? Ну и подумаешь! А завтра можно будет вообще убежать отсюда. Хоть бы и через окно. Наплевать. Все надоело.
Утром зазвонил телефон. Саша потянулся с кровати к столу. Чуть не свалился. Выругался. Схватил трубку. Это был приятель Сева Шатурин. Он прокричал: Слушай радио, Торбачева свергли, у власти хунта, в городе танки! – и бросил трубку.
– Что такое? – проснулась Настя.
– Горбачева свергли, – сказал Саша. – У власти хунта. В городе танки.
Они с Настей счастливо засмеялись.
Во времена моей молодости был такой предмет, выточенный из титанового сплава. Штопор и открывалка в виде двух маленьких цилиндров. Они развинчивались, появлялся собственно штопор, а его футляр продевался в полукруглую проушину и становился поперечной рукояткой. Сама же проушина играла роль открывалки для пивных бутылок. В свинченном виде это был аккуратный брелок. Эта штука называлась бойцовка.
Потому что бойцами у нас назывались активисты по части выпивки.
Не столько по части выпить, сколько по части раздобыть.
Надобно сказать, что времена моей молодости были не слишком удобными в смысле купить чего-ни-то из выпивки. Это теперь полнейший ассортимент на каждом углу, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А тогда и ассортимент был поуже, и магазинов сильно поменьше. И работали они, как правило, до семи вечера. Ну, до восьми.
До десяти работал только Елисеевский магазин на улице Горького.
А до одиннадцати – Смоленский гастроном на углу Арбата и Садовой. И точка.
Однажды мы сидели у моей подруги Лены И., на Речном вокзале. К половине двенадцатого уже всё допили. А хотелось страшно. А взять негде. И тут я сказал, что в Аэровокзале, на Ленинградском проспекте, круглосуточно работает кафе. И там, в принципе, должно быть.
– Ну, ты боец! – И все стали собирать деньги.
– Кто поедет? – легкомысленно спросил я.
– Ты и поедешь! – закричали все и дали мне рублей десять.
Я взял с собой двух девочек для храбрости и веселья. Туда домчали на метро и троллейбусе. Заходим. Кафе закрыто, естественно. Но зато работает буфет. Народу никого. И продается болгарское Каберне! Сорок копеек стакан! Ура, какое счастье! Но только в розлив. Строго. Бутылками ни-ни. Обещаю целый рубль сверху. Тетка крепка, как кремень. Она, дескать, за бутылки отчитывается. «Так скажите, что разбили!» «А где осколки?»
Что же делать-то?! И тут я вспоминаю, что утром ездил в зоомагазин за рыбками для маленькой сестры. Нужных рыбок не было, а пластиковые пакеты у меня в кармане. Прочнейшие, специальные, емкие!
Снова подхожу к прилавку:
– Вина, пожалуйста.
– Только в розлив, я же сказала!
– Да, да, конечно. Двадцать стаканов, пожалуйста. Продавщица стаканы нам подвигает, мы их в пакеты льем, а она приговаривает:
– Ну, вы бойцы! Ах, бойцы! Вот так бойцы! Мы пакеты завязали, уложили за пазуху… Обратно ехали на такси.
Все прямо рухнули. А один парень, он был постарше, подарил мне свою бойцовку. Как наградное оружие. Правда, я ее скоро передарил. Другому юному бойцу.
В мое время поездка на троллейбусе стоила четыре копейки. На автобусе – пять, а на трамвае – три. На метро тоже пятачок, но я про городской наземный транспорт.
В начале и в конце вагона стояли кассы в виде железных ящиков, а сверху было устроено пластмассовое навершие плавных очертаний. Со щелью, куда кидать монетки. Они попадали на крышку ящика. Когда монеток накапливалось много, крышка под их тяжестью слегка опускалась, и они соскальзывали в ящик.
А сбоку была билетная лента, в такой кассете с ручкой. Заплатил, сам себе выкрутил билет и прошел, как говорится, в салон.
Люди просто так, бесплатно, билеты не брали. Стыдились, наверное.
Билет, как сказано, стоил три, четыре или пять копеек. Легче всего было в автобусах, потому что была монета пятачок.
А как быть в трамвае или в троллейбусе?
Поэтому вокруг кассы всегда была небольшая толпа и голоса: Мелочь не опускайте! Копеечку не бросайте, пожалуйста!
То есть я опустил пятак, а у кого-то три копейки и копейка, и вот я прошу, чтоб он мне эту копейку отдал. Потому что я пятак уже опустил. Ну, или я опустил гривенник, тогда мне надо получить пять, шесть, а то и семь копеек сдачи. В зависимости от того, автобус это, троллейбус или трамвай.
Случались сложные трансакции. Гражданин, не опускайте… Сколько у вас? Десять? Давайте сюда, держите две, и гражданка вам даст две, а тот товарищ должен женщине три, а она вам одну, и с того товарища еще одна..
Всё на доверии, что особенно интересно.
Никто не говорил: подумаешь, мелочь какая! Потому что, например, две копейки – это, если одной монетой, звонок по телефону-автомату. Или две коробки спичек. Или две газировки без сиропа. И вообще, если бутылка водки стоит 2.87, то никто тебе ее за 2.85 не отпустит.
Вот.
Однажды, году этак в 1970-м, поздним вечером сажусь в троллейбус. Народу никого. У меня пятак. Я его бросаю, отрываю билет, жду. На следующей остановке входят два араба. Я потом понял, что они арабы, по их разговору. А так просто два южных хорошо одетых товарища.
Я говорю:
– Копейку не бросайте, пожалуйста. Один мне отвечает:
– Pardon?
Я не понял, что он иностранец. Мало ли. Я говорю:
– Одну копейку дайте мне, пожалуйста.
Он поворачивается к своему другу, они переговариваются. Тут я услышал, что по-арабски.
Оборачиваются – и протягивают мне по три рубля кажкдьгй. Ласково улыбаясь при этом.
Я хотел возмутиться, но потом тоже улыбнулся и отрицательно помахал рукой.
Потом вошла какая-то бабушка, и я с нее получил копейку. Сошел у метро. А арабы поехали дальше.
Был чуточку похожий случай с другим исходом.
Мы с ребятами оказались на научной студенческой конференции в одном большом и прекрасном южном городе.
Идем гулять по красивой центральной улице.
Стоит мороженщик. Я решил съесть сахарный рожок. Он стоил 15 коп. Роюсь в кармане, достаю двугривенный, даю мороженщику. Рожок за пятнадцать, пожалуйста. Приятного аппетита, молодой человек. Но сдачи не дает. Я молчу, он молчит. Смотрю на него, он на меня. Довольно долго смотрим друг на друга. Потом я спрашиваю:
– Вот это мороженое, – показываю на купленный рожок, – сколько стоит?
– Пятнадцать копеек, – равнодушно говорит он.
– А я вам дал двадцать копеек.
– Ну? – говорит он.
– Но мороженое-то сколько стоит? – говорю я.
– Пятнадцать копеек, – спокойно говорит он.
– Но я ведь вам дал двадцать копеек!
– Ну? – холодно говорит он. – Зачем повторяешь, а?
– А сдача где? – вежливо говорю я.
Вдруг он взрывается. Вся его полуденная разморенная меланхолия мигом улетает прочь. Он взмахивает руками.
– Ты бедный, да? – возмущенно кричит он. – Ты, значит, совсем бедный, да? Весь такой бедный-несчастный?! Совсем голодный, да?! Раз ты такой бедный, тогда на, на, на! – Налившись яростным кирпичным цветом, он достает из кармана десятку и пихает мне: – На, бери, бедный такой! Бери, купи себе хлеб, а то с голоду умрешь!