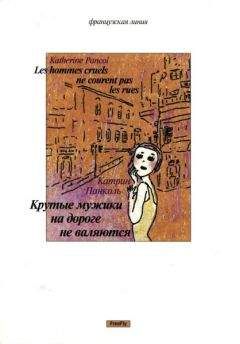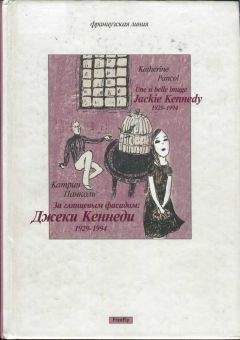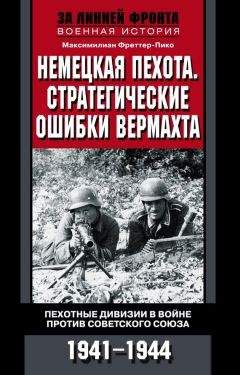На уровне Пятьдесят девятой он сворачивает налево и направляется прямо к Централ-парку. Мы по-прежнему молчим. Основная проблема теперь состоит в том, что после стольких минут тишины можно изречь только что-нибудь исключительно умное и оригинальное, потому что каждое слово сейчас будет исполнено особой значимости. Стоит ли рисковать?
Алан самозабвенно слушает «Семерых ангелов», перематывает пленку снова и снова. Похоже, эта песня ему очень нравится, быть может, пробуждает приятные воспоминания.
В конце концов мне так надоело изводить себя загадками, что я перестаю думать о чем бы то ни было и всецело отдаюсь движению. Откидываюсь на сиденье и ощущаю себя маленькой девочкой, которая поздно вечером возвращается из гостей домой. Весь мир для нее сосредоточен между папиным затылком, маминым затылком и красной обивкой салона. Снаружи сигналят машины, обгоняют друг друга, дерзко перетекают с полосы на полосу, а здесь, внутри, уютно и тихо, здесь так сладко дремлется, все тревоги остались за бортом. Я потихоньку подпеваю «Ангелам» и в конце концов выучиваю припев наизусть. Мы молчим, но между нами много всего происходит. Тишина окутывает нас густым облаком, и кажется, что наши мысли неслышно курсируют между креслами навстречу друг другу. Напряжение постепенно спадает, Алан беззаботно крутит руль, я дремлю, и все наши недомолвки растворяются в этой безмятежности подобно снежкам, летящим в сугроб. Смотри-ка, подмечаю я, кажется, он ненавидит меня немного меньше! И смотрит по-другому. Наверное, понял, что не такое уж я чудовище и что он меня недооценивал. Он-то думал, что я начну болтать без умолку или сделаю морду кирпичом, потому что у него уже есть подружка. А я его приятно удивила. На фиг мне сдалась его подружка? Ревность как рукой снимает. Я ее даже жалею, потому что такой многозначительной тишины между ними никогда не было.
Мы доезжаем до Амстердам-авеню и двигаемся дальше вверх. Проезжаем Колумбийский университет, не сбавляя скорости. Не взглянув на спящие корпуса кампуса, Алан не спеша едет дальше, прислонившись к дверце, неподвижно уставившись в бескрайнюю ночь. Мы приближаемся к Монастырям.
У ворот он останавливается, заглушает мотор, раскидывает руки на подлокотниках и ударяется в воспоминания, будто обращаясь к самому себе:
— В детстве родители часто привозили меня сюда воскресными вечерами и рассказывали о доблестных рыцарях, о королях и королевах, о соборах, надгробьях и даме с единорогом. Потом мы возвращались домой, они включали радио и слушали сериал, а я сразу поднимался к себе в комнату и в тишине думал об этих доблестных рыцарях… Я и в Европу ездил только для того, чтобы посмотреть на храмы, на римские церкви. Я стал большим специалистом по соборам, крепостным сооружениям и гобеленам…
А мы с Тото в детстве воскресными вечерами просиживали перед телевизором, а потом до ночи в пижамах бегали друг за другом по коридору, крича: «Эй-эй, Ринтинтин!» Мы оба хотели быть Расти, потому что Ринтинтину доставалась самая тяжелая работа, а еще потому, что мама, проходя мимо телевизора, всегда говорила: «Какой все-таки милашка этот Расти! И такой воспитанный!» Расти представлялся нам ловким пройдохой, которому все давалось легко и весело. Я говорю об этом Алану. Он смеется. А потом мы снова молчим.
Мне очень хочется взглянуть на часы, но я себя сдерживаю.
Облокотившись о левую дверцу, он разглядывает Монастыри. Я следую его примеру: прислоняюсь к правой дверце и тоже смотрю. Чтобы убить время, я начинаю водить губами и носом по холодному стеклу, стараясь ни на йоту не отступать от заданной траектории. Жидкость для мытья окон щиплет язык, но я продолжаю водить губами по стеклу, отчего они немеют, словно от наркоза. Здорово, когда никуда не надо торопиться, и все-таки обидно, что время пропадает зря! К тому же… Местность в отсутствие туристов выглядит, прямо скажем, мрачно. Забетонированная парковка пустынна. И о чем он думает? О девушке, которая его ждет? О своем детстве? О поставках колготок?
Он закуривает и мечтательно смотрит прямо перед собой. На кончике сигареты растет башенка пепла, того и гляди упадет ему прямо на пиджак. Я хочу его предупредить, но передумываю: с какой стати мне с ним нянчиться. Ловким, точным движением он неспешно погружает в пепельницу наполовину сгоревшую сигарету, включает зажигание, и мы трогаемся с места. Проезжая по Централ-парку он поворачивается ко мне и спрашивает как бы между прочим, будто приглашая на чашку кофе:
— Вернешься со мной в «Эрию» или поедешь к Бонни?
У меня дыхание перехватывает. От неожиданности я вмиг забываю все свои клятвы и добрые намерения, данное самой себе обещание не спешить, не торопить события, отрешенно наблюдать за происходящим. Я вскипаю, кричу:
— А свечку тебе не подержать? Спасибо за приглашение, но лучше уж я вернусь к Бонни… Ты кем себя возомнил? Думаешь, ты настолько неотразим, что я соглашусь прибыть с тобой на свидание в качестве сопровождающего лица? Может, мне еще поаплодировать, когда твоя подружка кинется тебе на шею?
Видно, что моя тирада его позабавила. Он смотрит на меня и ничего не отвечает. Его молчание окончательно выводит меня из себя, кажется, все мои нервы свернулись в моток колючей проволоки. Я продолжаю на повышенных тонах:
— Чего ты от меня хочешь? Скажу тебе раз и навсегда: я не выношу мужиков, которые напускают на себя таинственность, скрывая собственное убожество, которые ставят себя выше всех, а наделе гроша ломаного не стоят. Предлагают угостить пиццей, а вместо этого везут к дурацким развалинам и пускают слезу, вспоминая далекое детство! Разве это я на тебя набросилась сегодня вечером? Как бы не так, ты сам ко мне подошел. Я спокойно беседовала о литературе с этим славным юношей, ни к кому не приставала. И вдруг является некто и начинает качать права! Приглашает прогуляться при луне и подкрепиться пиццей… И что в итоге? Ни луны, ни пиццы, а вместо них свежеиспеченные руины, которые возникли не раньше чем спальные пригороды Парижа. Это не руины, а новострой, дешевая подделка! Что вы, америкосы, в этом понимаете! Интеллектуальная недостаточность — ваша национальная болезнь! Вы наивно полагаете, что Тициан — это краска для волос, а Версаль — марка автомобиля! Зря я написала тебе письмо, ты его не заслуживаешь! Ты неотесанный грубиян! Бесчувственное чудовище! Надеюсь, больше мы с тобой никогда не встретимся!
Алан сидит, прислонившись к стеклу, башенка пепла растет на кончике сигареты. Он молчит. Ждет продолжения. До него, кажется, ничего не дошло, или ему на меня наплевать. Терять мне больше нечего, и я подвожу черту:
— Я возвращаюсь домой и больше слышать о тебе не желаю. Мое письмо можешь порвать, это была ошибка молодости! Я написала его в минуту растерянности, в порыве самобичевания… Такое со всяким может случиться… Поэтому забудь про письмо, выбрось из головы меня и отправляйся трахаться со своей кикиморой, кем она у тебя служит, манекеном в «Блумингдэйле»? Вот, собственно, и все. Если тебе лень везти меня к Бонни, так и скажи, не стесняйся, я пешочком дойду.
Его ухмылка из ехидной превращается в прямо-таки издевательскую:
— Так и пойдешь? Ночью? Через парк?
— А что тебя это вдруг взволновало? Думаешь, я боюсь?
По правде говоря, боюсь я до умопомрачения. Внутренне содрогаюсь от страха и тайно надеюсь, что он проявит галантность и благополучно доставит меня к Бонни, невзирая на все мои оскорбления и угрозы. Мне хорошо известно, что происходит по ночам в Централ-парке, поэтому я скорее согласилась бы им свечку подержать, чем оказаться в этом диком месте хотя бы на минуту.
— Видишь ли, я бы на такое не решился. Здесь очень опасно.
— Не опаснее чем в Булонском лесу! Все-то у вас, америкосов, самое-самое! Вечно стремитесь к мировым рекордам! Тоска зеленая! Скажу тебя честно: я вас всех ненавижу, а тебя особенно!
— Ну, если я тебе настолько противен…
И он широким жестом распахивает дверцу кадиллака, приглашая меня покинуть машину. Я остолбенело смотрю на него. Неужели он и вправду выкинет меня из салона? Бросит на съедение волкам! Это уже не просто жестокость, это преступное невмешательство, влекущее за собой гибель утопающего.
Я колеблюсь. Выбираю между честью и жизнью.
Решение не очевидно. Как поступить? Кануть в ночь с гордо поднятой головой и пасть смертью храбрых под ближайшим кустом? Или вернуться в теплый, уютный вражеский стан, безропотно сдав оружие?
Я замираю в нерешительности.
Все это время Алан молча смотрит на меня, одной рукой придерживая дверцу.
— Знаешь, мне даже нравится, когда ты выходишь из себя, не пытаешься показать, что ситуация под контролем…
Я смотрю на него, готовая вновь сорваться, я напугана и никуда не хочу идти.
Меня страшит темнота.
Меня пугает парк.