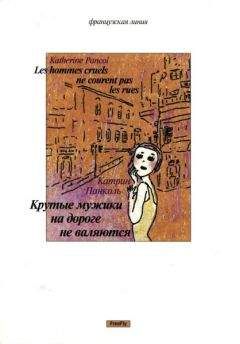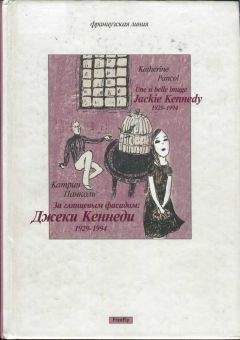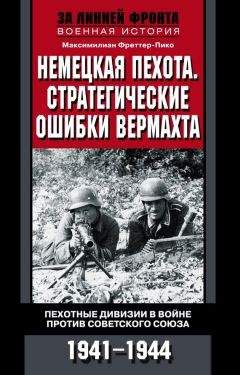Девушка в зеркале кивает: она готова рискнуть.
Алан меня ждет. Сидит в плетеном кресле и ждет. Старается держаться индифферентно. Он протягивает мне бокал, я пью маленькими глотками, набираюсь сил. Меня ждет нелегкое испытание правдой, и, как нетрудно догадаться, на Алана в данном случае рассчитывать не приходится. Он не возьмет на себя роль друга-подруги, которому можно излить душу, не поддержит меня морально в минуту жгучего и мучительного недовольства собой. Любовник и конфидент — роли несовместимые.
— Ну что, — прерывает молчание Алан, — избавляемся от комплексов, флиртуем с первым рыжим встречным?
Я не считаю нужным отвечать на этот вопрос и усаживаюсь на подлокотник его кресла, под живой изгородью. Отодвигаю пальму — ее листья лезут мне прямо в глаза. Алан не двигается, ему даже в голову не приходит встать и уступить мне место.
— И сколько таких дядечек ты снимаешь за вечер для самоуспокоения?
— А ты что здесь делаешь? Опять сговорился с Бонни Мэйлер или на этот раз она действовала по своему усмотрению?
— Я понял, что ты здесь, когда увидел Бонни в баре. Чтобы сразу тебя успокоить, скажу, что я не один…
— Ах вот оно что, — вырывается у меня, и от внезапной боли судорогой сводит живот, перехватывает дыхание.
Значит, все-таки подружка, стучит в голове, и он нас сейчас познакомит. Я живо представляю себе его пассию. Красивая, необыкновенная, умная, под мышкой — диплом кандидата наук, в тонких пальцах — серебряная ложечка, платье отделано мехом, длинные волосы упруги и блестящи, а кожа бархатистая настолько, что чванливые продавщицы из «Блумингдэйла» при виде такого совершенства вытягиваются по стойке смирно, носик маленький и изящный, а зубы… Зубы ослепительно-белые, ровные, ухоженные. Крошечные ножки в открытых туфельках-шпильках… Она не идет, а плывет. Не смеется, а дарит божественную улыбку. На ногтях переливается лак. Короче, хороша на все сто процентов. Я остаюсь не у дел. Моя песня спета!
— И где же твоя подружка? — интересуюсь я, сутулясь и судорожно потирая лоб, — того и гляди появится дырка.
— Подойдет к половине двенадцатого.
— Понятно.
На часах только десять.
«Что же делать? — размышляю я, раскачиваясь на подлокотнике. — Как я обычно поступаю в подобных случаях?»
Просто ухожу. Утоляю печаль в объятиях другого. Первого встречного. Утешаюсь калорийным шоколадным мороженым. А в полнолуние и вовсе теряю голову: набрасываюсь на объект страсти, умоляю взглянуть мне в глаза, забрать меня с собой, взять меня — и поскорее. А потом разыгрывается привычная пьеса в пяти актах.
Однако сегодня этому не бывать. Я дала себе слово и буду его держать. Я прислушиваюсь к своему новому «я». Оно никуда не спешит, потому что верит в себя. Призывает меня избавиться от дурных привычек и призраков прошлого. Поживем увидим, восклицает новое «я».
И я решаю повременить. Броситься в его объятия я всегда успею.
Пусть жизнь все расставит на свои места.
Пусть деревья неспешно растут, а птички беспечно поют. Пусть Ритины предсказания сбываются постепенно. Пусть Алан однажды, не сегодня и не сейчас, а когда придет время, увидит меня в новом свете.
Вечно я несусь сломя голову, не пора ли наконец сделать остановку и малость отдышаться?
Даже когда папа был при смерти, я сгорала от нетерпения, постоянно ловила себя на желании поторопить события. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось, увидеть, в какое состояние повергнет меня Его смерть. Я никогда еще не сталкивалась с ней так близко, и мне было любопытно, как все это будет.
При этом воспоминании голова начинает раскалываться так, что я невольно откидываю ее назад. Перед глазами встает больничная палата, где в ожидании папиной смерти, сидя у изголовья белой металлической кровати, я нетерпеливо притопывала ногой. Ну же, папочка? Не пора ли тебе преставиться? Сколько можно? Давай же поживее…
Я ненавижу себя. Ненавижу свою вечную спешку.
Я закрываю глаза, чтобы не разреветься. Не дать волю слезам при Алане, а то он вообразит, что я плачу из-за него, и начнет меня жалеть, а это вообще самое ужасное, что можно себе представить.
Я не позволяю слезам вырваться наружу. Открываю глаза и снова смотрю на него. Я так мучительно хочу этого мужчину, что он кажется мне почти нереальным. Так и подмывает ущипнуть его посильнее, чтобы из недосягаемого Принца он вновь превратился в обычного человека.
Мы молчим.
У него есть подружка. Они вместе уезжают на выходные, и он целует ее в губы.
И в точеную шею…
И в грудь.
И между ног, доводя до крика.
Для меня места не осталось, и поцелуя мне не будет.
Надо подумать о чем-то другом. Может, стоит вернуться в Париж?
В Париже у меня друг, он славный, красивый, влюблен в меня. У него тоже длинные руки и большая машина с круглым пропуском на ветровом стекле. Приезжает он нечасто — дел по горло, и любит меня на скорую руку. Зато заваливает подарками и пишет нежные письма. Я обожаю их читать, когда его нет рядом. Они мне безумно нравятся.
Гораздо больше, чем он сам.
Странно, что я так долго про него не вспоминала…
Я мотаю ногой из стороны в сторону. Закусываю удила. Слежу глазами за людским потоком, текущим из зала в туалеты и обратно. Покусываю пальмовую ветку, которая щекочет мне нос. Алан дожевывает свои льдинки, вытягивается в кресле, отчего я едва не падаю с подлокотника, поворачивается ко мне и изрекает:
— Что-то мне здесь не нравится. Пойдем есть пиццу?
Он ездит на кадиллаке. Сиденья обиты красной кожей и так широки, что сзади можно уложить двух бродяг со всем их скарбом. Я усаживаюсь в кресло и принимаюсь нажимать кнопки радиоприемника, чтобы скоротать время и собраться с мыслями. Меня так и подмывает открыть ящик на передней панели и взглянуть, нет ли там пудреницы или губной помады, но я не смею. Вместо этого делаю глубокий вдох — аромата духов не ощущается, ни малейшего.
Слегка успокоившись, я откидываюсь назад. Хочется задрать ноги повыше, но я себе этого не позволяю, хотя соблазн велик — места в машине предостаточно. Расстояние между нашими креслами полтора метра, без преувеличения.
Он берет наугад кассету, и салон наполняется музыкой в стиле кантри. Рэй Чарльз и Вилли Нельсон исполняют дуэтом «Семь испанских ангелов». Неплохо, констатирую я. Заснеженные улицы, обледеневшие небоскребы, Алан за рулем, старые мэтры, поющие каноном. Добавить к этому нечего, и я молчу.
Он тоже молчит.
Мы поднимаемся в верхнюю часть города. Я пытаюсь понять, куда мы едем. Меня, конечно, тянет ехидно поинтересоваться, успеет ли он на свое свидание, но я держу себя в руках. Вдруг он и вправду забыл о нем, а моя соперница с ума сходит! Меня пронзает жгучая волна наслаждения. Я заранее ненавижу эту стерву и при мысли о том, что она изводится в ожидании Алана, испытываю нечто подобное оргазму. Тем не менее окончательной уверенности в таком повороте событий у меня нет, и временами внутри все так и сжимается: я представляю, как Алан наклоняется к ней, а она гордо сияет губной помадой и гарцует на своих шпильках. Наверное, она похотлива, как кошка…
Молчание затягивается. Кажется, мы вот-вот заговорим о самом главном и просто готовимся к этому ответственному моменту.
В полном молчании мы двигаемся дальше.
Машину он ведет на редкость аккуратно. Не кипятится, не сигналит понапрасну. Мягко трогается с места на зеленый свет, плавно тормозит на желтый. Пропускает пешеходов, выбегающих на проезжую часть в неположенных местах. Поворачивает медленно и спокойно, а в мою сторону даже не смотрит. Мурлыча себе под нос, глядит вперед. Мы минуем Юнион-сквер и сворачиваем на Мэдисон-авеню. Похоже, мы забрались так высоко, что на свидание Алан теперь наверняка не попадет.
Возможно, он принадлежит к той категории людей, которые могут есть пиццу только в одном раз и навсегда выбранном месте.
Чтобы немножко успокоиться, я начинаю играть с рекламными щитами. Эту игру я придумала еще в детстве. Проезжая мимо очередного щита, я пытаюсь найти связь между картинкой и тем, что происходит со мной. Например, на углу Двадцать четвертой и Мэдисон мой взгляд падает на рекламу кофе: Ретт Батлер сжимает в объятиях Скарлетт, внизу дымится чашка горячего напитка. Слоган гласит: «Жар кофе. Жар любви». Эту нехитрую ситуацию я смело интерпретирую в свою пользу: Скарлетт — я, Ретт — Алан, а чашка — соперница, которая, сгорая от нетерпения, поджидает Алана в клубе и, вероятно, быстро поостынет, не обнаружив его на месте в условленный час. Эта трактовка мне чрезвычайно нравится. Я преисполняюсь довольства собой, чувствую себя спокойной и счастливой, готовой к любым испытаниям, прямо-таки обреченной на успех. Все эти ощущения нахлынули на меня с такой силой, что я не удерживаюсь и бросаю Алану заговорщицкий взгляд. Он ничего не замечает, но я-то знаю, что отныне он принадлежит мне одной. Понимаю, что он влип навеки. Главное, мне теперь некуда спешить.