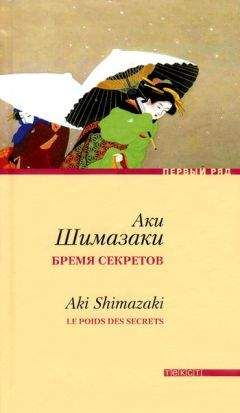— Значит, твой отец знал моих настоящих родителей? — спрашиваю я.
— Он знал твою мать, разумеется. Но не отца.
— Не отца?
— Ты родился вне брака.
«Вне брака?» В голове проносится образ Марико и Юкио. «Выходит, я не только приемный сын, но и внебрачный…»
— Кто моя настоящая мать?
— Твоя няня, — отвечает Кенсаку ровным голосом.
— Соно?
— Да.
Я опускаю голову. С минуту мы молчим.
— Не вини ее в том, что она бросила тебя, — говорит Кенсаку. — Тогда ей жилось трудно. Моя мама была с ней хорошо знакома и даже помогала при родах. Об этом я узнал гораздо позже.
Я не отвечаю. Перед глазами проплывает картинка из детства: Соно поет, поглаживая мне спину, и я засыпаю. В саду пищат котята. Глядя на них, я вспоминаю сирот из церкви.
Вдруг Кенсаку говорит:
— У меня нет детей.
«У него тоже?» Даже предположить не мог, что мы с ним в одинаковой ситуации.
— Как же ты решишь дело с храмом? — спрашиваю я.
— Он перейдет к другому человеку. Это долгая история, расскажу в следующий раз.
Он смотрит в сад. Котята играют возле своей матери, которая лежит на траве. Она зевает. Кенсаку улыбается:
— Соно была такой жизнерадостной, несмотря на слабое здоровье. И сколько она путешествовала!
Наконец я тоже улыбаюсь:
— Ты прав. В последний раз ее занесло в Харбин.
— Знаешь, почему она туда поехала? — спрашивает он.
— Кажется, ей непременно нужно было встретиться с каким-то человеком.
— С русским, которого она любила.
— Русским, которого она любила? — повторяю я.
— Да. Помнишь, в двадцатые годы в Японию приезжало много русских музыкантов, после чего уровень исполнения классической музыки значительно вырос? В Токио Соно познакомилась с виолончелистом из харбинского симфонического оркестра. Потом он часто приезжал к ней в Японию. В тридцать третьем году Соно отправилась в Харбин: ей казалось, это последняя возможность с ним встретиться. Я думаю, она умела жить по-настоящему.
Прежде чем уйти из храма, я возвращаюсь на могилу к Соно.
Снова вглядываюсь в вырезанную на камне надпись. «Васуренагуса. Соно. 1871–1933». Фамилии нет. Склонившись над плитой, долго молюсь. Потом поднимаюсь и говорю:
— Соно, кем бы ты мне ни приходилась — няней, матерью, другом, — ты была удивительным человеком. Счастье — повстречать тебя в этом мире.
* * *
Жена в саду, вяжет. Я лежу на энгава. В голубом небе кружат ласточки. Этой весной они снова свили гнездо под нашей крышей, и теперь там много яиц. По словам жены, ласточки воспитывают птенцов вместе. По очереди высиживают яйца, ловят насекомых и кормят малышей, вычищают из гнезда помет.
Жена говорит, что ласточки напоминают ей о священнике-европейце, который заботился о сиротах как о собственных детях. Слова, которые он произнес в тот день, когда я сообщил ему о своем намерении сделать Марико предложение, были словами отца, желавшего уберечь свое дитя от невзгод и страданий и всем сердцем переживавшего за его счастье.
Солнце светит все ярче. Скоро лето. Закрываю глаза. На мгновение задумываюсь над тем, есть ли среди животных бесплодие и приемные детеныши.
Размышляю над историей своих родителей, которую рассказал Кенсаку. Сначала я был поражен, но чем больше я возвращаюсь к этому в своих мыслях, тем сильнее крепнет во мне убеждение, что они просто-напросто оказались жертвами семейной традиции. Известие о собственном бесплодии отец пережил как унижение. А мать страдала, что не может забеременеть и вся вина падает не на отца, а на нее.
Родители не понимали друг друга. Мое детство не было счастливым. Женившись на Марико, я твердо решил завести крепкую семью и окружить их с Юкио заботой.
Динь… динь… динь… Ветер раскачивает фурин. Смотрю на майское небо, чистое и ясное. Марико по-прежнему вяжет в саду.
— Добрый день, госпожа Такагаши!
Пришел господин Накамура. Я встаю и вспоминаю, что сегодня не наш условленный день для партии в шоги. Иду в сад. Господин Накамура рассказывает, что его невестка вчера родила и жена уже поехала к ней в больницу. Они с сыном тоже сейчас едут туда. Малыш и мать в полном порядке.
— Поздравляем! — говорим мы с Марико.
Марико спрашивает:
— Мальчик или девочка?
— Девочка, — улыбается господин Накамура. — Сын с невесткой уже выбрали имя.
— Какое же? — снова спрашивает Марико.
— Соно! — радостно объявляет господин Накамура. — Красивое имя, правда?
Марико смотрит на меня:
— Соно? Удивительное совпадение! Ведь так звали твою няню.
— Сказать по правде, они не знали, какое имя выбрать, если родится девочка. Когда я предложил им «Соно», они сразу согласились. Простите, меня ждет сын. Мне пора. До скорого!
Господин Накамура удаляется быстрым шагом. Складывая вязанье в сумку, жена говорит мне:
— Вот я уже почти закончила.
— Что ты вязала?
— Одеяльце для их дочки, Соно!
* * *
Мы с Марико идем по дамбе. Впереди широкая полноводная река. Глубоко, течение быстрое. Дует встречный ветер.
Марико начинает что-то тихо напевать. В солнечных лучах блестят ее седые волосы. Вдыхая тонкий запах мыла, я ловлю себя на ощущении, что все это уже однажды было со мной. Я останавливаюсь.
— Что случилось? — спрашивает Марико.
— Нет, ничего, — отвечаю я, запинаясь.
Мы идем дальше. Вокруг тишина. И ни души. Слышен только шум реки. Вдруг Марико спрашивает:
— Ты знаешь историю васуренагуса?
— Историю васуренагуса? — повторяю я.
— Да. Знаешь, откуда произошло название цветка?
— Нет. А что?
— Один средневековый рыцарь, — рассказывает Марико, — прогуливался со своей возлюбленной по берегу Дуная. Рыцаря звали Рудольф, а его даму — Бельта. Она заметила на берегу маленькие голубые цветы, и ей очень захотелось такой букет. Рудольф спустился к реке. Собирая цветы, он упал в воду. Он пытался плыть, сопротивляясь быстрому течению, но напрасно. Бельта перепугалась. Бросив ей цветы, рыцарь крикнул: «Не забывай меня!» — и скрылся под водой…
Слушая эту историю, я вспомнил Омск и реку Иртыш, на берегу которой росли незабудки. И молодую женщину, которая танцевала с венком на голове. А возле нее резвился мальчик. До меня снова доносятся звуки балалайки.
— Грустная история! — говорю я Марико.
Мы садимся на деревянную скамейку и смотрим на реку.
Марико молчит. Взгляд рассеянный, устремленный вдаль. Я даже не знаю, о чем она думает. Но знаю, что у нее много воспоминаний о той жизни, которая была до нашей встречи и о которой она не хочет рассказывать никому. Глаза у нее чуть влажные от слез. Мягко обнимаю ее за плечи. Она прижимается ко мне. Глажу ее руку. Она сидит, плотно сжав колени. «Марико, а ведь я тоже „сомнительного происхождения“», — мысленно говорю я. Чувствую, как тепло ее тела проникает внутрь меня.
Закрываю глаза. И вот я гребу против быстрого течения. В лодке Юкио и Марико с букетом голубых цветов в руках. На берегу священник, женщины и дети из церкви, они кричат: «Господин Такагаши!» — и размахивают руками. Малыши, священник, госпожа Танака… Потом я замечаю, что к ним подходит еще одна женщина. На ней кимоно с фиолетовыми узорами. Позади бежит маленький мальчик. «Соно!» — зову я ее.
I
В небе клубятся тяжелые дождевые облака.
Стоя у окна, я смотрю на них — недвижные, точно скалы. Громко стрекочут цикады. Изнуряющая духота. Только что закончился сезон дождей.
Одеваюсь и выхожу из дома: сегодня я еду к родителям, где меня ждет Обасан. Теперь она почти не встает с кровати. Родители говорят, она вряд ли протянет до осени.
Я живу в Токио. Учусь в университете. Сейчас летние каникулы. В первой половине дня я работаю в цветочном магазине. После обеда иду в библиотеку и занимаюсь там, потому что в квартире слишком жарко. Готовлюсь к экзаменам, предстоящим в сентябре. По выходным езжу в Камакуру к родителям — они заботятся об Обасан. Уговариваю их сходить куда-нибудь вместе. Мои старшие сестра и брат тоже живут в Токио. В последнее время они целыми днями заняты на работе, и им редко удается навестить Обасан. Родители благодарны мне за помощь.
Обасан восемьдесят четыре года. С прошлого декабря ее здоровье заметно ухудшилось: поскользнувшись в саду, она ушиблась головой и сломала ногу. Она была слишком слаба, чтобы выдержать операцию, и, когда ее мучили боли, она принимала лекарства. У нее пропал аппетит, она стала плохо слышать, и день ото дня силы ее убывали. Нас беспокоило ее здоровье — не только физическое, но и умственное: у Обасан начались галлюцинации, которые продолжались несколько недель.
До сих пор помню, как это произошло в первый раз, три дня спустя после несчастного случая в саду.
Обасан лежала в кровати. Я складывала белье на столе в углу ее комнаты. Вдруг она окликнула меня: «Цубаки, смотри!» — указывая на раздвижные стеклянные двери, которые вели в сад. Ветер кружил хлопья снега. «Что там, Обасан?» — «Хо-та-ру», — ответила она, четко выговаривая каждый слог. «Не может быть!» — возразила я. Но она сказала серьезно: «Приглядись-ка получше!» Я была озадачена. «Красота какая!» — воскликнула она и начала напевать детскую песенку: «Хо… хо… хотару кои…» «Летите скорей сюда, светлячки! На чужом берегу вода солона, а у нас — сладкая! Летите сюда, светлячки!» Потом она замолкла и сказала: «Жестокая песня! Это же обман! Цубаки, смотри не утони в сладкой воде».