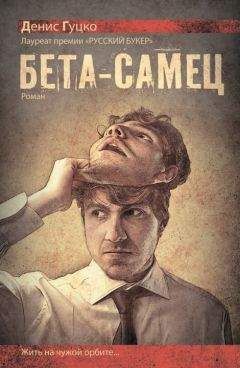Ознакомительная версия.
Вроде бы все прапорщик делал правильно: матюкался четко, тон взвинчивал, как положено, не давая опомниться, привставал и падал на каблуки он тоже довольно впечатляюще. И все тщетно. Митя не ощутил ни испуга, ни злости, зато великое удивление объяло его. Тяжелое обезволивающее удивление — и та резкая досада, которую испытываешь, когда кто-нибудь уверенно выводит фальшивую ноту.
В каждом слове прапорщика звучала та невозможно фальшивая нота, что песком забивается в ухо и больно скребет мозг. «Ты это серьезно?» — чуть не спросил его Митя. И если бы сейчас его поставили у стены аптеки «Трифарма», закрашенной какими-то дворовыми граффити, и стали бы расстреливать под барабанный бой, то и тогда Митя не смог бы удивиться сильней, чем сейчас.
— Товарищ прапорщик, — позвал кто-то из солдат. — Да бросьте вы.
— Что-о-о-о?! — развернулся тот к солдатам, взметнув из-под каблуков веер камешков и пыли. — Машкин, Сафонов, вы слышали приказ?! В машину его!
Но солдаты не сдвинулись с места. Один из них недовольно отвернулся в сторону и сплюнул себе под ноги. От звука этого плевка, шлепнувшегося на асфальт, Митя будто пришел в себя.
— В машину, я сказал! Я приказываю! — Прапорщик входил в пьяный раж с нескрываемым удовольствием. Спина его отвердела, он стоял по стойке «смирно». — Вы у меня уволитесь в запас! Вы поедете у меня домой к Новому году! Вы у меня?
Митя пожал плечами и шагнул в сторону проспекта.
— Стоять! — Прапорщик почти упал на него и, жарко дохнув перегаром и семечками, впился в плечо.
— Да чего тебе надо? — поморщился Митя.
— Чи-и-и-во-а?! — пронзительно затянул прапорщик, к концу слова переходя на бас. — Я те покажу, чего мне надо! — Он отпустил плечо и толкнул Митю в грудь. — Я те покажу!
Митя посмотрел на свою грудь, на прапорщика — будто делая усилие, чтобы принять реальность происходящего, — и повнимательней вгляделся в его лицо: уж не армейский ли это замполит, капитан Трясогузка, разжалованный и ставший прапорщиком. Это хоть как-то оправдало бы происходящее. Митя просто не мог поверить, что из-за предвыборных листовок, из-за, в общем-то, безобидной игры в демократические выборы можно так возбуждаться — и когда, в конце две тысячи третьего!
— Да мне по? — сказал один из солдат. — Я вообще-то водитель. Это не мои дела. — Широко махнул рукой и направился к машине.
Прапорщик подошел и еще раз толкнул Митю в грудь.
— Я те покажу, че мне надо, урод!
Митя от этих толчков дергался и пятился назад, но из-за разности в весе прапорщик дергался не меньше и отскакивал ровно на такое же расстояние, успевая еще поймать и поправить фуражку. Услышав удаляющиеся шаги у себя за спиной, он развернулся.
— Сафонов, куда пошел? Сафонов, ко мне! Ты у меня?
Так и не поверив в реальность прапорщика, Митя взял его за плечи и, развернув к себе, ткнул коленом в пах. Тот издал короткий звук, похожий на подавленный чих, и улегся на тропинку. Митя вопросительно посмотрел на солдат. Солдаты стояли, оторопело глядя на захлопнувшегося пополам прапорщика. Один из них переглянулся с Митей, не имея никакого определенного выражения во взгляде. Митя развернулся и пошел, а когда солдаты и сгорбившаяся возле щита фигура скрылись в ночной тени, на всякий случай побежал. Сзади доносился надсадный мат. Митя ждал выстрелов. Обязательно должны были раздаться выстрелы. Без выстрелов все окончательно теряло резон. Листовки высыпались из-под полы прямо под ноги. Остановившись, чтобы подобрать, он вдруг спохватился, что делать этого нельзя: он стоит на пустыре, на самом открытом пятачке, ярко залитом луной. Митя рванул под деревья, в темноту. Здесь он повесил пакет с обрывками и клеем на ветку сосны и, вытащив из-под полы оставшиеся листовки Бирюкова, бросил их на землю. Слышны были только мат и проклятия в адрес его, а также Сафонова и Машкина. Митя постоял, послушал и двинулся к высоткам, то и дело спотыкаясь и жмуря глаза, чтобы не напороться на острый сук. Скоро утих и мат. Войдя во двор, он остановился и оглянулся. Пустырь, насколько его было видно в просвет меж двух домов, мирно золотился и чернел кисточками кустов. Погони не было. «Нет погони», — подумал он и сел на лавку у подъезда.
Мимо прошаркал старичок с вонючим мусорным ведром, где-то в темноте раздался утробный юношеский хохот.
«Надо же! Бешеный прапорщик. И где — на гражданке! Спустя столько лет! Наверное, карма у меня такая».
Генрих играл. Митя сидел со Стасом и Витей-Вареником, нервно дергаясь на каждый звук от входной двери. Люси все не было, и мобильник не отвечал. Зал был пуст, как осенний парк, и такой же тусклый под светом низких абажуров. Генрих любил играть в пустом зале. В пустом зале у него приключались «настроения». Так он это называл. На появляющуюся публику реагировал по-разному. Мог, услышав скрип двери, оборвать игру на середине фразы, и в эту секунду можно было физически, как шершавую кирпичную стену, на которую наткнулся в темноте, ощутить грянувшую тишину. Но случалось и наоборот. Случалось, он продолжал играть, и если посетители вели себя хорошо, не гремели стульями и не болтали, Генрих наэлектризовывался, и из-под его рук вырастала живая музыка — и трепетала уже не только в черном исцарапанном черепе старенького пианино, а там, где положено, — в торжественно притихших слушателях. И тогда, если в конце раздавались хотя бы одиночные отрывистые хлопки, он, не оборачиваясь, приветственно махал рукой и вставал из-за пианино с совершенно счастливым видом.
Он играл Гершвина. Каждый раз, когда Генрих играл Гершвина, Арсен, если был в это время в баре, выходил в зал и, развалившись за хозяйским столиком у дальней стены, слушал. Слушал внимательно и сильно морщил лоб. В один из таких моментов Митя, проходя мимо, бросил какую-то коротенькую приветственную фразу, не обязывавшую к ответу, и Арсен схватил его за штанину, усадил за столик и сказал:
— Слушай, скажи, что-то я не так делаю? — Он развел руками. — Посмотри, музыканты у меня хорошие?
— Отличные.
— Генрих как выдает, да? Люда — вах, цаватанем, шоколадка! Бар у меня хороший. — Его армянские словечки и Гершвину придавали какой-то пряный армянский привкус. — Хороший? — переспросил он, не дождавшись подтверждения.
— Да!
— Слушай, почему тогда дела так слабо идут? Я в Москве с одними людьми знаком. Ходим с ними туда, сюда. В разные места меня водят. И никаких там? знаешь? тар-ля-ля? Рояли белые стоят, люди сидят по-королевски. Музыку слушают, выпивают. Кстати, бабки за это отстегивают — я тебе говорю! Я в Ростове то же самое хотел. Лавэ всадил! — Он потряс рукой у себя над головой, изображая, сколько именно всадил. — И что? Цены по сравнению с Москвой — тьфу, пенсионер приходить может. Приходят полтора человека за вечер, возьмут по бокалу, сидят до утра… — Он выругался по-армянски. — Почему так? Только этим нищим нравится, а? Что, нет в Ростове людей при «капусте»? Клянусь, не меньше, чем в Москве, есть. Пошли сейчас с тобой в любое казино — забито. Народ ночи просиживает, и ставят нехило. А посидеть по-королевски, блуз послушать? — Арсен сокрушенно покачал головой. — Такое место содержать — только в убыток. Давно надо закрыться, сделать обычный кабак?
Сегодня Арсен тоже сидел в зале и слушал Гершвина. Его размякшая фигура напоминала печеное яблоко, уроненное на стул. И настроение, запечатленное на его лице, было столь же необъяснимо, как существование печеных яблок. По крайней мере Митя ни у кого больше не видел такого лица во время исполнения музыки Гершвина.
— Не закроет, — сказал вдруг Витя-Вареник, обращаясь к Стасу. — До сих пор не закрыл, значит, не закроет. Он упрямый. Он хочет быть круче, чем крутые яйца.
Когда Витя-Вареник произносил за раз больше одной фразы, окружающие непроизвольно затихали на полуслове, чтобы не пропустить это редкое явление. Он угрюмо посмотрел в сторону Арсена.
— Кабацкую муть я играть не стану. На свадьбах каждую неделю кочегарить не хочу.
— Не стану! Не хочу! Яка цаца! Придется, дружочек. — Стас звонко хлопнул его по колену. — Кушать хочешь каждый день? Тогда придется на свадьбах. «Обручальное кольцооо? непростое украшееееньеееее».
Витя-Вареник еще угрюмей посмотрел на Арсена.
— Не закроет.
Разговор не клеился. Стас чистил саксофон жидкостью для мытья окон, Витя-Вареник принялся раскачиваться на стуле, откидываясь назад до самой стены. Митя собирался дождаться закрытия «Аппарата» и пойти с Люсей к себе. Последнее время это случалось часто. С каждым разом сужался круг, приводивший Митю к Люсе. Озадаченная душа, как подопытная обезьяна, с каждым разом все быстрей находила верное решение. Ждать постоянно откладываемого дня, когда наконец можно будет пойти в ОВИР и забрать паспорт, было все труднее — и становилась очевидно, что этот сосущий вакуум ожидания может утолить только она. О том, что будет после, когда нервное напряжение спадет, когда он получит наконец паспорт, оформит заграничный и, наврав ей с три короба, поедет к сыну — а главное, что будет потом, когда он вернется, — об этом Митя не думал.
Ознакомительная версия.