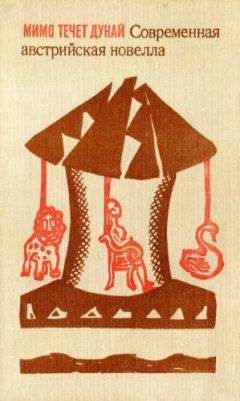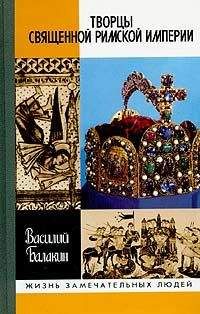Западня. Его хотят взять за горло. А ведь он прав, прав не формально, а по существу. На это и нужно будет ссылаться. Что же касается Мрацек, то она виновата, хотя и не сознается пока, еще не прижата к стенке неопровержимыми доказательствами. Все дела, хранящиеся в тумбочке, — это трагедии, трагедии и смертные приговоры. Там все виновны: хотя и не все сразу сознавались, всех удалось прижать к стенке. Можно действовать. Нужно только прибавить три, четыре строки к каждому делу, а потом готовые, подписанные, опечатанные дела — к прокурору. Что же касается Койтера — завтра же он допросит братьев Марек, выявит их соучастие и передаст дело прокурору, ведь вина главного обвиняемого уже доказана. Он метался по кабинету, обдумывая план сражения за себя. Он не заметил, что время идти в ресторан. А когда после обеда вернулась секретарша, он отослал ее, чтобы она не мешала думать. Где ему было знать, что в это время дисциплинарная комиссия уже обсуждала его работу.
Было половина пятого, то есть конец рабочего дня, когда к нему в кабинет вошли члены комиссии. Вначале появился незнакомец с лицом доброго дядюшки, затем сутулый полный седой мужчина и наконец молодой бледнолицый следователь в очках. Они извинились за вторжение, и пожилой мужчина, в котором Будил с ужасом узнал президента сената, оглянулся в поисках стула. Затем, тяжело вздохнув, он сообщил Будилу, что, как это ни прискорбно, решено начать дисциплинарное расследование.
— И это уже не впервой, коллега, — сказал он грустно, и оба его спутника кивнули с серьезными лицами, подтверждая сказанное.
Будил глотнул — к горлу подступил комок — и тоже кивнул молча. Затем президент осведомился, как идет следствие по делу Койтера.
— Все в порядке, господин президент, — произнес Будил с натянутой улыбкой. — Если вы имеете в виду жалобу на арест, то могу вас успокоить. Обвиняемый Лео Хоймерле, который бог знает по чьему распоряжению освобожден из-под ареста, действительно сообщник Койтера. Его отец заблуждается. Суть в том…
— Я достаточно знаком с этим делом, — перебил его президент. — Если обвиняемый — активный соучастник преступления, что ж, для вас это еще хуже, коллега Будил. Не допрашивая преступников целых двадцать дней, вы способствовали его освобождению. Как это могло случиться?
Будил молчал.
— Вы утверждаете, что все это время занимались делом Антонии Мрацек. Значит, следственные материалы в порядке? Прокурор требует, чтобы мы подготовили обвинительное заключение.
— Завтра следствие будет закончено.
— Вы разрешите посмотреть протоколы?
Будил молчал.
— Я попросил, коллега, показать протоколы.
Будил судорожно глотнул, поднял усталые глаза и сказал:
— Их здесь нет, господин президент.
— Как это нет?
— Я имею привычку работать по ночам дома. Протоколы лежат там.
Трое мужчин переглянулись, молодой следователь пожал плечами, на его худой шее выступили жилы. Старшие обменялись кивком. Президент повернулся к Будилу вместе со стулом и сказал:
— Коллега Будил, за время службы в нашем суде вам было поручено тринадцать дел. Ни одно из них вы не довели до конца. Можете ли вы показать мне хотя бы протоколы следствий?
У него были большие треугольные глаза, не злые, а только грустные и полная, укоризненно выпяченная нижняя губа.
— Я вел дело врача… — начал было Будил.
— Это дело завершил ваш предшественник. Вам нужно было только его прочитать и поставить свою подпись.
Будил отвернулся и уронил голову на стол. Он плакал. Молодой следователь и господин с лицом доброго дядюшки подскочили к нему и дотронулись до его плеча. Он был как во сне, слышал какие-то слова и не понимал их смысла, но чувствовал, что его успокаивают, не винят, а, напротив, утешают, и это окончательно лишило его самообладания. Уткнувшись в ладони, он зарыдал.
— Тяжелое нервное потрясение, — донесся до него голос президента сената.
Потом они ехали в машине, поднимались по лестнице, неосвещенный подъезд был таким привычным, и Будил, который больше не плакал, а лишь изредка всхлипывал, пытаясь проглотить комок в горле, шел впереди.
Они увидели Штефанию, железную кровать, часы с кукушкой, тумбочку. Когда советник открыл ее, оттуда выползло небольшое облачко пыли, он бы упал, если бы не схватился за спинку кровати.
«Фантастика», — подумал молодой следователь, отличавшийся романтическим складом ума, и возбужденно подергал очки. Те, кто постарше, стояли молча, с ужасом взирая на это кладбище протоколов. Будил, словно танцуя, отступил в сторону, оперся левой рукой о тумбочку — наследство покойной матери, а правую простер вперед, будто призывая всех посмотреть на свой позор.
Прямо против него неподвижно, навытяжку, стояла Штефания, и ее застывшие серые глаза через головы судей смотрели на преступника.
Герман Фридль. Визит епископа[35]
Пульсация в висках, которая беспокоила его преподобие Бенедикта Влаха с некоторых пор, — это было еще полбеды; куда хуже была пелена, застилавшая глаза, и, сколько бы он ни старался, ему не удавалось от нее избавиться.
Преподобный отец подумывал даже обратиться к врачу, своему приятелю, если после визита епископа, о котором его давно оповестили и который уже сейчас вызывал столько хлопот и волнений, ему не станет лучше.
Пока что он лишь немного изменил свои привычки — передвинул на более ранний час вечернюю трапезу, ограничил себя одним стаканом пива — раньше он выпивал два — и выкуривал только одну трубку — перед сном.
Больше всего его выбивали из колеи регулярные поездки в столичный епископат, в частности для того, чтобы навести справки о его преосвященстве, поскольку отцу Влаху не удалось ничего толком узнать у собратьев из соседних общин — у тех, кто уже свободно вздохнул после визита епископа, или тех, кто делал вид, что близко знаком с его преосвященством.
После таких поездок в столицу отец Влах падал в изнеможении в кресло, и экономка — около сорока лет прослужившая у него и уже заметно одряхлевшая, — стягивая башмаки с его отекших ног, слышала только одно: «Ох уж эти господа в епископате, ну прямо фальдфебели!» Хотя сам патер никогда не служил в армии, он знал, что представители младшего клира сплошь и рядом несли военную службу и с завидным рвением продвигались по служебной лестнице.
Как бы там ни было, Влах видел, что младшие клирики позволяют себе разговаривать в тоне приказа и бумаги составляют по-армейски, что, по его мнению, им не подобает.
И с кем же еще, если не с верной Мари, мог он поделиться своими мыслями? Покорно, с трудом склоняла она и без того согнутую временем спину, чтобы снять башмаки, причинявшие ему боль.
За многие годы они стали похожи друг на друга: оба — святая наивность и простодушие, но при этом патер не ронял своего достоинства, соблюдая дистанцию в отношениях.
С волнением думал он о том, какие молитвы выбрать для мессы: кто знает, что понравится его преосвященству.
Старик священник слабо разбирался в новшествах литургии, хотя епископ давно уже вводил их в городских церквах, заботясь об оживлении религиозной жизни.
По правде говоря, его преподобие Влах не очень-то придерживался этих новшеств во вверенном ему приходе, среди своей паствы. Даже в разговорах с Мари он старался обходить эту тему, ограничиваясь неясными намеками.
Взволновал патера и приезд епархиального казначея, собиравшего церковный налог, — привычный уклад жизни был нарушен, а это для людей преклонного возраста не проходит даром.
Патеру потребовалось немало умения и такта, чтобы заставить нерадивых плательщиков погасить задолженность. Однако к предстоящей проверке церковных книг он отнесся довольно спокойно, и это спокойствие передалось Мари. «Если я до сих пор не научился вести книги, — заявил он, — то сам епископ меня не научит».
Скорее неприятности, чем волнения, сулило патеру приглашение именитых граждан городка — бургомистра, председателей солдатского союза и певческого общества, членов приходской общины; музыкальную капеллу предстояло позвать специально; все ждали особых приглашений, хотя женщины давно уже держали наготове выходные платья.
Однажды после обеда, соснув немного и чувствуя себя отдохнувшим, патер поднялся и пошел к старшему учителю.
Он медленно, неуверенными шагами поднимался по крутой дорожке к школе, чуть раньше, чем нужно, и тверже, чем следовало, втыкая свою палку в землю. Прежде чем войти, он остановился, отдышался, затем постучал и, когда из дома послышалось резкое «войдите», отворил дверь. Он заметил, как вытянулось лицо учителя, затем сморщилось за толстыми стеклами очков и наконец застыло в выражении высокомерного смирения и почтительности.
Учитель вскочил, склонился к руке патера.