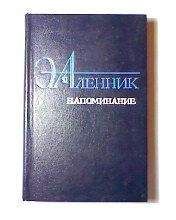В Ленинграде выдался первый за весь июнь теплый, солнечный выходной день. Нина и Саня огорчились, что допоздна проспали, но все же решили поехать за город, побродить по лесу.
Когда они вышли, светило солнце в чистой голубизне, город был ярким, женщины — легко и светло нарядными.
Был у ленинградцев свой стиль, было чувство меры и линии, как в прекрасных зданиях города. И где угодно можно было услышать: «Сразу видно — ленинградка!»
Нина и Саня шли в солнечно-праздничном настроении и… что такое?.. за полквартала, на трамвайной остановке у репродуктора — толпа, прикованная, недвижная.
Нина рванулась туда. Саня крепко взял ее за руку, задержал и сказал: Это война.
Они подошли к репродуктору, дослушали объявление и обращение к народу. А женщины уже плакали, уткнувшись в мужей, прижав к себе детей.
Наши двое подождали повторения, услышали пропущенное начало, и ноги сами повели их по любимому Саниному Кировскому мосту — в Летний сад.
Они сидели на скамье, смотрели на идущих по аллее, сразу же определяя, кто из них слышал и знает, а кто еще радуется солнечному дню.
В распоряжении Сани было только семь часов. Нет, уже не семь, шесть с половиной. А они не спешили домой.
Сидели и сидели. Быть может, потому, что это был сад, куда, «как в свой огород», приходил в шесть часов утра в пантофлях и халате Пушкин, и потому, что просвечивала сквозь молодые листья старых пушкинских лип набережная непостижимой гранитной плавности. И все это было домом Сани и Нины.
Белый вечер. И самая белая будет ночь: одна заря почти настигнет другую. То, что указано в мобилизационном листке, и чуточку сверх того уложено в рюкзак, но и на четверть его не заполняет. Заполнить хотя бы до половины — безусловно нужным! — Саня не дает.
Стук с лестницы в стену. Приходит брат Нины, Левушка. Лицо улыбчато-извиняющееся. Он всегда с печальным юмором извиняется за просчеты человечества.
У него воинская специальность, приобретенная в студенческие годы. Штурман небесного тихохода, как он себя величает. На заводе ему объявили, чтобы в военкомат не совался: его инженерная голова пока что нужнее, чем штурманская. Но он будет соваться, а его так и не возьмут. Он будет ездить на завод, покуда будут возить трамваи. Будет ходить пешком, пока весь не распухнет, не раздуется от голода. Тогда из блокадного Ленинграда его перебросят самолетом в Ташкент, на эвакуированный из Москвы завод такого же типа. И, обедая в ташкентской столовой, он будет безошибочно узнавать ленинградцев по их взгляду на приближающийся поднос с едой.
С Левушкой пришел его друг Илья, недавний однокурсник, по мозговым качествам — номер первый, да еще альпинист, да еще с огромными цыганскими глазами, смущенными своей красотой и потому покоряющими женский пол еще сильнее, и в таком охвате, что это уже глобальное бедствие. Его мозговые свойства используются в физической лаборатории академика Иоффе. Точнее, использовались до сегодняшнего дня включительно. Завтра утром он явится добровольцем на призывной пункт.
Его воинская специальность пехотная, его возьмут.
В первом бою он останется один среди убитых товарищей, подберется к пулемету и застрочит по «завоевателям мира». А когда нечем будет строчить, когда гитлеровцы попрут к нему, он убьет себя, выстрелив из нагана командира взвода, лежащего рядом, теряющего сознание, кажущегося мертвым. Этот командир расскажет об Илье после войны, после концлагерей.
Но пока что Илья сидит в уютной мансарде, в уголке, и все поглядывает на Саню какими-то неотпускающимп глазами, словно ищет способ оказаться на войне с ним рядом.
Левушка с Ильей не первыми пришли в этот вечер к Сане и Нине. У них уже сидел пишущий человек и ее муж дирижер. А через несколько дней дирижер уйдет в ополчение.
Нет, погодите немного! Он еще здесь. Сегодня был утренний симфонический концерт под его управлением.
Он знает, как вести музыкальную фразу, чтобы до каждого долетела ее суть и чувство. Он слышит звуки, читая ноты и читая книги. Те книги, где непроизнесенное, не предназначенное для пения, прочитанное глазами слово звучит. Где оно и понятие, и свое, отличимое от всех других звучание. Да, сегодня — это так. Он — имеющий уши, он слышит. А через несколько дней уйдет в ряды Народного ополчения и не вернется. Не постигнет он сути звуков истребления, не защитится, не прижмется к земле.
Последняя чашка чая в этом доме, в этой высокой, притихшей мансарде. Последняя чашка чая в этой жизни. Военная и послевоенная — это будут другие жизни.
Последний глоток — и все идут провожать Саню.
Вот улица, поворот за угол… Вот Александр Коржин входит в назначенную дверь в своем летнем легком гражданском костюме, но уже отвердевшим, военным шагом и собрав всего себя в кулак.
— Усыпите меня, как собаку!
— Перестаньте, хороший мой, шею свернете.
— Пусть! Все равно обрубок!
На разгоряченную голову ложится рука, не дает метаться.
— Все равно — обрубок…
— Что за чушь? Ваши кости — и тазовая, и плечевая, и локтевые — отлично срастаются. Одной ноги лишились.
— Одной?! Зачем вы… Обе отрезали!
— Нет. Правую хирургам удалось спасти. Если бы мой сын вернулся с такой потерей, я был бы счастлив.
Еще несколько слов раненому, совсем молодому, и главный консультант госпиталя выходит в коридор.
— Пожалуйста, все на минуту ко мне. Благодарю, я постою. Только что одна из вас, золотые мои, вышла от больного, оставив его в шоке, не объяснив…
— Да он мотал головой как зверь. Кричал: болит отрезанная, требовал отравить, усыпить.
— И что вы ему ответили?
— «Успокойтесь, — сказала. — Бывает, — сказала, — чудится, что отрезанные ноги болят».
— Вот-вот, «ноги»! Ощупать он не может, руки забинтованы. Поднять голову, наклонить вперед и увидеть — не может, плечи привязаны к койке. Он решил: отрезаны ноги, а не нога. Думайте, пожалуйста, милосердные сестры, о каждом слове больному. Слово может лечить и может убить.
Говорил это Алексей Платонович притихшим голосом.
Притихшим шагом вышел из госпиталя, куда начали прибывать раненые с огнестрельными переломами, требующими длительного тылового лечения. Он шел по жаркой улице, по горячей земле, подпекающей ноги сквозь подошвы парусиновых ботинок.
Изредка с ним здорвались приветливо и обрадованно. Он не мог вспомнить тех, кто здоровается, но отвечал кивком и улыбкой. Доброжелательная, вежливая улыбка вросла в кожу его лица и открывалась при движении мышц, как открываются глаза, когда поднимаешь веки.
Он не спешил домой, то есть в дом дочери, зятя и внуков, в дом-не-дом, потому что там не было Вареньки. Она не приехала… А был уже август сорок первого. Столица Узбекистана с каждым днем становилась все многолюднее, все шумнее. Ташкент превращался в многоязыкий Новый Вавилон, во вместилище изгнанных войной живых ценностей:
Философы и писатели-антифашисты — немецкие, чешские, польские. Писатели белорусские, украинские, ленинградские.
Академики с Академией наук, киноработники со студией научных фильмов.
Ленинградская консерватория. Заслуженные дирижеры, музыканты-солисты. Артисты театров драмы и театров комедии.
Известные деятели науки и искусства, знаменитости на каждом шагу. Они еще не обосновались, многие из них похожи на больших взъерошенных птиц, перелетевших океан в непогоду, не знающих, из чего и надолго ли совьют гнездо.
На мирные улицы с пирамидальными тополями, цветниками, спокойно журчащими арыками они обрушили тревогу и бедствие войны. Мирный, неспешный шаг смуглых мужчин и женщин в наглаженном белом и ярком шелку они сбили метанием, растерянностью, болью потерь и взволнованной суетой устройства. В беспощадном свете солнца замелькали на улицах бледные, дымные лица, замелькала одежда, потемневшая и смятая на двухъярусных нарах товарных вагонов.
Просторная вокзальная площадь Ташкента превращалась в бивуак прибывших разрозненно, кто как мог.
Под спокойным, чистым небом, на голой теплой земле сидели и лежали женщины, дети и старики, ели пшеничный невоенный хлеб с абрикосом или персиком, подумать только: вымытым под струей питьевого фонтанчика. Просто счастье, что в этом городе — на базарах и у вокзала — питьевая вода, наклонись над струей и пей!
Днем, доверив детей старикам, женщины бежали хлопотать о жилье под крышей, а когда темнело, устраивались пока что ночевать на земле без крыши, — эти люди, не связанные с высокими учреждениями, нежданные в таком баснословном количестве.
Оно будет еще баснословнее, когда война вытеснит, вышвырнет людей из многих и многих городов. И когда из Ленинграда начнут вывозить в теплый край истощенных блокадников — по проложенной истощенными ледяной Дороге жизни.