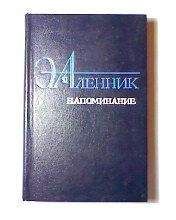Оно будет еще баснословнее, когда война вытеснит, вышвырнет людей из многих и многих городов. И когда из Ленинграда начнут вывозить в теплый край истощенных блокадников — по проложенной истощенными ледяной Дороге жизни.
Но Ленинграду не раз отдавалось должное. Надо отдать должное Ташкенту. Из каменного он превратился в резиновый. Он сумел вместить в себя, устроить в домах, втиснуть в закутки и кладовушки — неимоверно, неправдоподобно многих. Этот город рос и рос и перерос себя вдвое.
Ташкентская земля, скольких ты сберегла! Щами из виноградных листьев, ложкой мучной затирухи с одним глазочком хлопкового масла — но все же кормила. А прикорм задорого удавалось иногда прикупить на базарах — этих роскошных до умопомрачения горах и грудах изобилия. Ну хоть десяток грецких орехов (таких питательных!), хоть гроздочку винограда, хоть пятьдесят граммов масла. Правда, для этого надо было продать кольцо, или часы, или одну из последних одежек на необозримом вавилонском толчке. Зато когда это удавалось, запахи шашлыка и плова не так, не до обморока туманили голову.
Жаркая земля! Ты сберегла осиротелых, беспризорных мальчишек, тех, что вились в стороне от детских домов и детских распределителей, бежали от них с пламенной мечтой попасть на фронт. Этим подросткам-романтикам ты до зимы не дала продрогнуть, не дала замерзнуть даже в канавах. И бросали им кое-что детолюбивые узбеки с прилавков, протягивали кое-что местные хозяйки из распертых снедью сумок.
Вскоре Алексей Платонович вытащит из канавы такого мальчишку и приведет за руку в Институт неотложной помощи. Приведет туда в свой первый рабочий день, сунет в ванну и поможет снять щеткой кору грязи. И пока эта ванная процедура будет совершаться, объяснит, что из этого Института до фронта наикратчайший путь.
Затем облачит мальчишку снизу в больничное белье, а поверх — «нет, уж пожалуйста, найдите покороче» — в халат медицинского работника. И получится, что приступит профессор к делу не один, а вместе с помощником Серегой, как он назвал себя, «без никаких женских сережек», как он добавил.
Конечно, этот помощник несколько ошарашит институтское начальство. Но что поделаешь, нужда в неотложной помощи не удвоилась — упятерилась. Хочешь заполучить Коржина не консультантом, а главным хирургом соглашайся и на довесок.
Мы разглядим «довесок» и познакомимся с ним в свое время, несколькими неделями позже. В сегодняшний августовский день нельзя нам выпускать из вида Алексея Платоновича. Его и так надолго заслонил Новый Вавилон. А город не должен заслонять человека, как хороший, чистый лес не заслоняет деревьев…
Но вернемся в город снова.
Вот она, обеспокоенная, взволнованная, многолюдная улица, обсаженная тополями. Коржин идет из госпиталя в дом-не-дом. Улица несется ему навстречу. Спешка идущих сзади словно подталкивает его в спину. Не ускоряя шаг, он отступает в сторону от домов и тополей к открытой палящему солнцу мостовой, давая дорогу измученным. Он смотрит на них, улавливая не столько их озабоченность, сколько тонус здоровья и нездоровья.
Из центра города, из центра отчаянных хлопот он сворачивает в более тихий квартал. Здесь можно идти под тенью деревьев. Здесь, как добрый старый друг, стоит и ждет тебя густолиственный карагач. Под его широкой тенистой шапкой виднеется так кстати брошенный ящик.
Алексей Платонович переворачивает ящик дном кверху, садится на него, снимает узбекскую тюбетейку и дает остыть голове. Когда он шел по солнцепеку, самые тяжелые мысли, самая тяжелая боль от него отступили. Но стоило чуть освежиться, вытянуть ноги, дать отдохнуть горящим ступням — и все вернулось снова.
О Вареньке, то есть о возможных вариантах беды с нею, все новых, все более страшных, он думать себе запретил. Но это запретное непрерывно маячило где-то над ним как седое облако, облако с сердцем внутри.
Ждать — он не мог себе запретить, хотя прошло уже полтора месяца и ждал он вопреки здравому смыслу.
Сейчас, в тени карагача, он еще раз сказал себе, что нет надежды. И почему-то облако, что маячило над ним, резко шевельнулось, причинив ему боль.
Но под этим ощущением нереального, столь несвойственным Алексею Платоновичу, под этим облаком — была реальная жизнь. Была работа, пока не в полную силу, потому что приходилось обретать простую мускульную силу снова. Был Саня, были Бобренок и Неординарный — все трое на войне. Второй и третий оперируют днем и ночью под крышей или под защитным навесом. Ь(ак ни хрупка эта защита, у Сани и такой нет. Врет мальчик мой, что он в полкой безопасности и тревожиться о нем кет оснований. Врет в первом, единственном пока письме и будет врать в следующих. Пусть врет, но пишет до конца войны.
Своего мальчика поглощенный делом отец долго знал в общих чертах, приблизительно. А когда сын уехал учиться в Ленинград, затем остался там работать, когда стал бывать дома редко и недолго — отец узнал его куда как лучше и подробнее. Бывает, за долгий срок не удосужимся, не успеем вглядеться поглубже, а за короткий — успеем, потому что удосужимся.
Отец сидел, думая о сыне, желая знать правду и соглашаясь на его заботливое вранье — для мамы. «Дорогие мама и папа!» Бедный мой, не знай, пиши как можно дольше «Дорогая мама»…
Алексей Платонович посидел под тенью карагача минут пятнадцать. Тело отдохнуло, легче поднялось и легче пошло.
Идти предстояло порядочно. Можно доехать на трамвае, но они битком набиты. И вообще, если позволяло время, он предпочитал не ехать, а идти. И восстанавливались силы, по его мнению, в ходьбе и действии лучше, чем в бездействии.
Вдали от центра, в сравнительно новом районе, на немощеной глинистой улице, он остановился у глинобитной стены и отворил калитку. Стена-дувал огораживала построенный на его жалованье дом с мастерской для Усто и фруктовый сад, насаженный по его плану и при его содействии.
Он вошел в сад, взывающий о помощи. Неотложная помощь и та не вся еще была ему оказана — лозы виноградного навеса оттянулись тяжелыми гроздьями так низко, что виноградины уткнулись в стол и почти достигали топчана. В этой зеленой комнате все любили полежать, отдохнуть, но никому до этих лоз не было дела.
Прежде чем заняться ими, Алексей Платонович вошел в дом узнать, нет ли писем. Дочь встретила его радостным возгласом:
— Папочка, как хорошо, что ты пришел! — и поцеловала его, и, не ожидая вопроса, ответила: — От Сани ничего. Ну почему он не пишет? И не дал обратный адрес.
Что значит «номер полевой почты будет меняться»? Пока не изменится, можно дать старый.
— Вероятно, старого уже нет… Новый еще не известен.
— Думаешь, так бывает? Ой, я не спросила, ты хочешь есть или тебя накормили в госпитале? Из-за этих эвакуированных все так подорожало, просто ужас! Но если тебя не покормили…
— Покормили, — сказал Алексей Платонович. — Ктонибудь еще дома?
— Усто в мастерской. Начинает новую картину и бросает, ходит и ходит из угла в угол. Потом опять начинает и бросает. Говорю ему: ну что это такое? Начал — надо кончать. Он взял и заперся от меня. Можешь представить, муж от жены запирается!
— А дети?
— Валерик и Маринка где-то бегают, Алька торчит в этом научном кружке. Одна разрываюсь на всех. И ты еще Нину зовешь, с родителями!
— Пожалуйста, не беспокойся, я не к тебе зову.
— А куда они денутся? Все приезжают, каждый день приезжают, а моей мамочки…
Аня заплакала. Это были какие-то спазмы плача, с выкриками: «Погибла она, погибла!»
Алексей Платонович ушел от этих выкриков в комнату, построенную для него с Варенькой. Там стояла широкая кровать, письменный стол, плетеное кресло, два стула и шкаф, наполовину заполненный книгами, наполовину платяной. От приезда до приезда в нем оставалось коечто из одежды Вареньки и его летней одежды. Всю свободную от мебели стену занимала пожелтелая географическая карта шестой части мира. Он посмотрел на обозначенный кружком Новосибирск и возможный от него железнодорожный путь к Ташкенту. Путь мог быть с пересадками, но каким прерывистым бы ни был — он не мог продолжаться полтора месяца.
Потом он посмотрел на кружок — Ленинград. Где-то рядом отбивается Саня со своими солдатами, не давая кольцу сомкнуться. Доставленный сегодня в госпиталь самолетом большой командир рассказал, что для ввоза снаряжения и продуктов, для выезда из Ленинграда осталась одна железная дорога и один последний железнодорожный мост через Волхов.
Алексей Платонович вглядывался в карту. Кружочек Ленинграда раздвинулся, показал набережную, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий, показал даже университетский коридор. Знаменитый длинный коридор свиданий, философских споров и расставаний. Да, это был и его город. Он и его учил, и Вареньку. В какой же далекой стороне от него оказался его ученик сейчас, в какой обидной несвязанности с ним. И где, где его ученица?.. В последний Санин отъезд она попросила: «Поклонись за меня бывшим Бестужевским курсам».