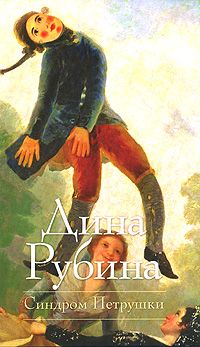Он сощурил молодые голубые глаза, словно вглядываясь в давнюю картину.
— Несколько раз я бывал у них дома — то ли мать за чем-то посылала, то ли я заходил за Висей — с той мы дружили в детстве. Они занимали три комнаты с кухней на последнем этаже дома по улице Ивана Франко. Может, помните этот дом: там, на вполне заурядном фасаде, на одном лишь последнем этаже чередуются мужские скульптурные пары — и это выглядит внезапным, необъяснимым. Стоят они между окнами по двое, высовываясь из стены по пояс. В области головы и плеч совсем отделяются от стены и внимательно смотрят вниз, на тротуар, словно в попытке разглядеть, что там, внизу. Молчаливые зловещие соглядатаи.
— Прекрасно помню этот дом, — отозвался я. — Там жил наш семейный дантист. Никогда эти скульптуры не казались мне загадочными.
— Не загадочными, — поправил он. — Не загадочными, а зловещими.
Внутренне я удивился, но спорить не стал. Мне-то жилье нашего дантиста Моти Гердера казалось забавным — из-за бормашины. В рабочие часы она тряслась и грохотала, как отбойный молоток, чуть не на всю улицу; зато к вечеру ее в целях конспирации накрывали китайским халатом, придавливая сверху широким матерчатым абажуром пятидесятых годов с развившейся бахромой.
— Так вот, их жилье было вполне типичной польской довоенной квартирой: старая тяжелая мебель, тяжелые портьеры, темные старые картины и этот, помните, львовский фаянсовый рукомойник. И — всепроникающий запах корицы…
И вот там, за стеклом больших напольных часов, я и увидел эту куклу. И остолбенел. Поразительная была кукла: явно старый еврей — ермолка, лапсердак, пейсы, — все как полагается, да так скрупулезно все сработано! И такое значительное, я сказал бы, мрачное лицо, несмотря на то что еврей улыбался. Но во всей этой фигуре — вот что меня особенно поразило — не было ничего привычно пародийного. Кроме разве большого живота, но и тот совсем не был смешным. Помню, я ревниво спросил:
«Вися, с чего это вы держите еврейскую куклу?»
Она отрезала:
«Никакая не еврейская, а наша! Наша женская родильная кукла».
Я расхохотался и спросил:
«Почему женская, это же мужчина!»
Она разозлилась и ответила:
«Не твое дело, глупчэ, я сказала — женская, значит — женская!»
Из-за поворота кактусовой аллеи тяжело выполз автобус — он курсировал между кибуцем и принадлежащей ему лечебницей на берегу моря — и остановился у дверей отеля. Из автобуса повалила прожаренная солнцем, отполированная тяжелой сероводородной водой публика, и мы с доктором Зивом некоторое время молча смотрели, как расползаются восвояси изможденные отдыхом, прихлопнутые шляпами курортники.
— Самое интересное, — заговорил он снова, когда автобус уехал, — что мой дядя Залман однажды выиграл у Тедди эту куклу в карты. Говорил, что у него был такой азарт: оттяпать куклу во что бы то ни стало. И, знаете, выиграл-таки! Добился своего! И целых три года кукла сидела у нас за стеклом буфета. С ней играла моя кузина — та самая, что оказалась здесь на старости лет со всем своим украинским хозяйством… Обе сестры Вильковские ужасно оплакивали свою «женскую» куклу. А тут еще у Яни так несчастливо сложилась материнская доля: она одного за другим родила каких-то больных мальчиков, и оба они умерли… Я уговаривал дядьку вернуть куклу. Но он уперся: нечего, говорил, ей делать у гоев! Пусть среди своих сидит. Но все-таки потом, года через три, Тедди ее отыграл. И кукла вернулась к Вильковским. Вот только лапсердак кузина куда-то подевала, играя, — в то время она была еще слишком мала, какой с нее спрос… Ну а мы с мамой скоро уехали…
Наш столик почти целиком оказался на солнце, но это как будто не тревожило старика. Блестя малиновым лбом, задумчиво подперев ладонью подбородок, он едва шевелил губами, будто повторял давно произнесенные, посвященные кому-то и растаявшие в сыром воздухе Львова слова. И вдруг проговорил по-польски:
— Куба, я мам дзисяй дзень народзеня, мам сэдэмнащэ лят… — И очнулся: — Прошла жизнь. Понимаете? А я вижу Яню совершенно ясно: отворилась дверь, и будто ангел вышел из брамы.
И как нарочно, после его слов из дверей сувенирной лавки вышла Лиза. Судя по ее виноватой и одновременно удовлетворенной улыбке, иранский шах мог ей позавидовать.
Доктор Зив вдруг поднялся из-за стола и сказал:
— Не могу, не буду больше смотреть. До сих пор больно, вот что значит юношеская любовь. — И, перейдя на английский, пожелал мне и подошедшей Лизе приятного обеда, чудесного вечера и благополучной обратной дороги.
— Рад был повидать вас, доктор Горелик.
— Борис, — поправил я. — Давайте наконец остановимся на этой версии.
— Борис, конечно… Вы не возражаете, если я запишу ваш телефон?
— Само собой, Яков. Да и я ваш с удовольствием запишу, отчего же…
Мы продиктовали друг другу номера своих телефонов, и он пошел, не оглядываясь, по дорожке меж деревьями — к своему домику, наверное…
* * *
…На обратной дороге в Иерусалим — а мы возвращались в темноте, и я был сосредоточен на однополосном извилистом шоссе — Лиза то надевала, то опять снимала купленный кулон, подносила его к лицу и все любовалась камнем и тонкой ювелирной огранкой. И говорила без умолку. Она была в хорошем настроении, развлечена покупкой — я мог гордиться удачной вылазкой.
— Думаю, это бирюза, — говорила она. — Но продавщица назвала как-то иначе: «эйлатский камень», почему?
— Это местный камень, очень красивый. Бывает и красным, и синим, и зеленым.
— Но согласись, что мой — изумительного редкого оттенка! Похож на павлинью грудку, согласись!
— О да. Замечательная штука. Я рад, что он достался тебе.
— А главное, — продолжала она, — этот удивительный природный рисунок на нем — балерина на пуантах… Будто пером нарисовано. Ты обратил внимание?
— Балерина? М-м-м… — Я скосил глаза, но тут же снова перевел взгляд на дорогу. Сзади ехал какой-то борзый малец, который уже дважды пытался меня обойти, ничуть не опасаясь получить в лоб таким же встречным идиотом. — Я потом посмотрю, Лиза, ладно?
Она снова надела кулон на шею, откинула голову на валик кресла, покачала ею, удобнее прилаживаясь, и сказала:
— Я потому его и выбрала, хотя там были и другие изумительные вещи. Он мне напомнил… Ты же знаешь — это такая большая часть моей жизни. Все детство на трамвае в балетную школу, занятия у станка… А там вечная Татьяна Михайловна орет: «Лиза, убери задницу! живот развесила! сними живот! держи спину, коровище! держи голову!» А начинает так ласково, мелодично, под музыку: «Ак-кура-атненько, кра-асивенько, тондью-батма-ан, плие-е-е, дэми-плие-е-е», а потом вдруг как гаркнет: «Лиза, задница!»… А что творилось, когда мы приступили к занятиям на пуантах! Эти пуанты сначала надо было выследить, выбегать, выстоять, купить, потом они не подходили по ноге. А на мою ногу вообще никогда ничего невозможно было достать. Начинался процесс подшивания, прогибания, размягчения, привыкания… Ноги стирались в кровь. Я таскала пуанты в портфеле в школу, якобы чтобы тренироваться на переменках, но и, конечно, чтоб пофорсить перед ребятами. Зато моя популярность как балерины в школе была огромной.
— Тебя как-то показали по телевизору, помню…
Я решил не напоминать ей — кто именно летом закупал, кто прогибал, размягчал и так далее, короче, кто подготавливал ей пуанты на целый год, до следующего своего приезда…
— Тогда все смотрели один канал и тебя видели все. Я тоже видел. Ты просто была звездой школы.
— Ага, — она удовлетворенно улыбалась, глядя на дорогу сквозь смеженные веки.
— Лиза… — проговорил я, еще не зная и сам не понимая, зачем спрашиваю. — А ты… совсем не помнишь своей мамы?
Она не удивилась вопросу, даже головой не шевельнула.
— Голос, — отозвалась она спокойно. — Всю жизнь помнила мамин голос. Поэтому так испугалась, когда Вися позвонила, — у них были поразительно схожи голоса; тембр низкий, певучий. Только у Виси более жесткие интонации, — но Вися к тому времени много лет прожила в Самаре.
Она умолкла, больше не щебетала, и я ее не тревожил. В конце концов она задремала. Все же для нее сегодняшний день оказался очень насыщенным — после размеренной-то больничной жизни…
Я молча вел машину вдоль моря, догоняя свет собственных фар, вдыхая запахи соли и трав в сухом ветре, запахи нагретых камней и финиковых плантаций; затем свернул на новое шоссе, освещенное двойным рядом глазастых фонарей.
Лиза спала, откинув голову на изголовье кресла. По ее профилю витражного ангела волнами проходил свет желтых фонарей, точно она плыла, покачиваясь, в лодке, — в этом было что-то волшебное.
Надо бы еще вывезти ее на Средиземное море, думал я, пусть походит по песку босая, это расслабляет, успокаивает… И вдохновился: а что, снять два номера, переночевать в домиках на берегу, где ночами море шумит чуть не у самой подушки… И снова задержал взгляд на ангельском профиле, безмятежно плывущем в мерном колыхании света вдоль темных холмов Иудейской пустыни; ну что ж, вполне уместно: сюда-то и захаживали Божьи вестники…